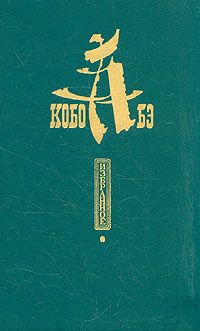но и это была идиотская мысль. В лесах близ поля боя, на следующий день после самой битвы, ещё мог быть арьергард чёрных, и они не стали бы долго с ним разговаривать, приютив на ближайшей ветке. Выбор был очевиден. Отдышавшись, придя в более или менее подходящее состояние для того, чтобы идти, он оглядел берег и нашёл достойную палку для посоха, настолько обглоданную водой и дождём, что любое зеркало позавидует её гладкости. Хрипя и рыча, он встал, опираясь на новый посох. Выбор был очевиден – вдоль течения реки, единственного направления которое могло бы вывести его к людям. Он ушёл в лес, прячась от неприятных встреч на берегу, но держась реки как направления, и пошёл вперёд, опираясь на посох, голодный и разбитый, но с надеждой.
От голода живот уже не просто урчал, он бестактно грозился на самопоедание. Состояние было такое, что человек уже не мог понять от чего ему плохо. Но сосновая чаща не предоставляла ничего съедобного, и, не имея выбора, он просто плёлся вперёд, держась реки по левую руку. Солнце прошло половину пути от зенита до заката. Вроде не так много, но голод, заставляющий от отчаяния выть волком, мучительно растягивал время. Каждая мелочь такая как назойливые москиты, заставляла нервы пылать в бешенстве, а нога, что хладный кусок мяса, заставляла черепную коробку реветь в ярости от невозможности взорваться тысячами багряных ошмётков. Слезы заполняли глаза от беспомощности, от бессилия. Но он шёл, плывя в тёплом осеннем мареве, и, не придавая значения своим действиям, начал петь… тихо, скорее нашёптывая старую солдатскую кричалку, сложенную каким-то старым забулдыгой, мурлыкая сквозь ком в горле:
«Он шёл из далека,
При свете маяка,
Не зная от чего,
Не зная почему,
Но сердце паренька,
Гонимое тоскою,
Гонимое никем,
Ведомое судьбою,
Летело по стезе,
Не ведая куда…»
Безмерная сосновая чаща всё же закончилась, внезапно переходя в пышущую зеленью прогалину. Сбитые корнями сосен ноги будто поплыли, ступая на нежную почву высохшего болота. А среди великого множества трав здесь были: впечатляющие высотой дельфиниум и валериана; едва заметные ветреница и мышиный горошек, но больше всего здесь было клевера, усыпавшего свободную от деревьев почву фиолетово-изумрудным ковром. Именно здесь он и решил сделать привал после долгого путь, никого не стесняясь, упав на самую нежную перину в своей жизни, утонув в аромате последних осенних цветений, забивавшихся в ноздри и рот, раздражая рецепторы своим разнообразием… Но и на этом подарки оазиса не закончились. Нежась в траве, он обнаружил прекрасно знакомые листки мокрицы, без которой не обходилось ни одно застолье в его большой семье, не пропускавшей ни один праздник.
Руки жадно впились в траву, вырывая и выпуская соки. И с ещё большей жадностью и алчностью он стал заталкивать каждый листочек в рот, прижимая ладони к губам, будто боясь, что найдётся храбрец отобрать у него кость. Он рвал и заталкивал мокрицу в рот, едва успевая её прожевать, чем вызывал поток тёмно-зелёного пенящегося сока, текущего по губам и бороде и, в конце концов, капающего на панцирь. И, лишь утолив жажду после столь желанной трапезы и взяв небольшое количество мокрицы про запас, человек отправился вперёд. Но, без доли сомнений, каждый шаг давался легче чем, любой такой же до привала.
Всё так же держась реки по левую руку, он шёл и шёл, перекатываясь по холмистому прибрежному валу, наблюдая за кричащей осенними красками природой, за заросшими камышом и ивой берегами, наблюдал то за необъятно расширяющимися водами реки, то сужающимися до размера меленького ручейка и галопирующими снова и снова. Он наблюдал за тем, как стайка воробьёв проносилась в каких-то жалких миллиметрах от водной глади, вышибая дух из, вероятно, заспавшейся в тяжёлом оранжевом вечернем сумраке стрекозы. Позже, в этом же сумраке, он наблюдал, как по воде и берегу, нежно переливаясь в лес, расходится плотный серый непроглядный туман, но нос не даёт обмануть себя, а туман на поверку оказывается дымом.
Он упредил дурную мысль о том, что он заплутал и начал ходить кругами, вернувшись на поле боя, где гореть могли лишь его собратья и враги. Нет, он явно шёл вперёд, хоть и с трудом. Дым могли напустить селяне, сжигая поля после сбора урожая, коим он был бы только рад. И эта мысль даже подняла дух человека, заставив упорнее передвигать посохом. Но пришла и другая – черная и обезнадёживающая. Тогда он терял всякую надежду. Но и сдаться он не мог, просто не мог. Он помнил ту мысль, кольнувшую его стыдом, когда он хотел остановиться и ждать смерти от рук всадника. И больше человек не мог вынести такого укола от собственного сознания и совести. И поэтому шёл, пробиваясь через дым, теперь уже достигавший высоты верхушек берёз, прикрывая нос остатками импровизированного бинта.
Сердце упало в желудок, когда он увидел остов некогда моста, соединяющего деревушку на левом с правым берегом, а на нём половину тела, явно пригвождённую тремя стрелами через ноги, вторая же половина, с головой, была в воде, иногда выталкиваемая из неё из-за пружинящего позвоночника. От моста бы ничего не осталось, если бы его опоры вовремя не догорели, уронив его в воду. Именно по нему и перебрался человек, держась также за остатки обуглившихся перил, засунув посох за пояс на спине, и даже пару раз чуть не присоединялся к тому вечному стражу, теряя остатки моста под водой, чему способствовал и стелящийся по воде плотный дым, ловко выгибаясь назад из-за смещённого панцирем центра тяжести и из-за ноги, вдруг разгоревшейся ещё большей болью после того как стопа скользнула в дыру меж досок и столь же неловко вырвалась из оков. Наконец, оказавшись с горем пополам на противоположном берегу, человеку предстала ещё более печальная картина. Нет, слово печальная – это тушить водой из ведра полыхающую адским пламенем избу. Нет, картина предстала душераздирающая, до того чудовищная, что поверить в то, что боги могут допускать такое… вряд ли возможно. Разве могут могущественнейшие и справедливейшие божества допускать такие ужасные свершения, от которых кровь в жилах перестаёт течь, всё нутро выворачивает, чтобы хоть как-то очиститься от увиденного.
Нежданный ветер, после целого дня полнейшего штиля, раздул серую, даже скорее аспидную мглу дыма, представив человеку картину: в кровавом закате остовы небольшой деревушки на пару десятков домов. От некогда процветающей стройной деревни остались лишь обгоревшие брёвна, но в большинстве случаев оставалась лишь полуразвалившаяся печь и больше ничего,