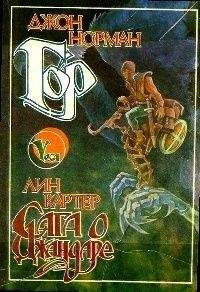— Выпьем! — крикнул я, заглушая разговор за столами.
Кубки одновременно взметнулись вверх и были осушены до дна.
Я кинул взгляд вдоль длинного стола и в самом его конце, справа от себя, увидел сидящую Луму — мою рабыню и одновременно старшую учетчицу. Бедная, тощая, услужливая Лума, подумал я, и какая она жалкая в этой своей тунике писца, не способной закрыть ее ошейника. Каким скудным приобретением ты была для пага-таверны. Однако она обладала блестящими способностями к вычислениям и, превосходно разбираясь в коммерческих делах моего дома, помогла значительно увеличить мои богатства. Именно в благодарность за это я позволил ей в этот вечер присутствовать на празднестве и сидеть в конце большого стола. Никто из свободных мужчин или женщин, конечно, не сидел рядом с ней, и, кроме того, чтобы остальные мои писцы и приверженцы не были возмущены ее присутствием, она сидела в кандалах, а цепь от ее ошейника была вторым концом прикреплена к ножке стола. Именно таким вот образом Лума, та самая, которая, возможно, имела для процветания моего дома самое большое значение, за исключением, конечно, меня самого, пусть даже сидя в одиночестве, закованная в цепях, но разделяла вместе со своим хозяином его заслуженную победу.
— Еще паги, — бросил я через плечо, поднимая кубок.
Телима тут же его наполнила.
— Тут есть певец, — заметил один из сидящих за столом людей.
Я недовольно поморщился, меня никогда особенно не интересовали всякие представления.
— Это настоящий певец, — осторожно заметила мне стоящая рядом Телима.
То, что она заговорила, вызвало во мне еще большее раздражение.
— Принеси с кухни та-винограду, — сказал я ей.
— Пожалуйста, мой убар, — попросила она, — позвольте мне остаться.
— Я тебе не убар, — недовольно заметил я. — Я твой хозяин.
— Пожалуйста, хозяин, — взмолилась она, — разрешите Телиме остаться.
— Оставайся, — раздраженно бросил я. Разговоры за столом стихли.
Певец был ослеплен, как поговаривали, Сулиусом Максимусом, считавшим, что слепота певца повышает качество его пения. Сам Сулиус Максимус, изредка пописывавший стихи, — довольно, надо признаться, любительские, — и разбиравшийся в ядах, считался человеком высокой культуры, и к его мнению в данных вопросах всячески прислушивались. Но как бы то ни было, присутствовала ли крупица истины в его суждениях или нет, певец навсегда остался в вечно окружающей его темноте, наедине со своими песнями. У него теперь были только они.
Я поднял на него глаза.
На нем было одеяние его касты, касты певцов, и по нему нельзя было разобрать, из какого он города. Большинство из них странствовали, бродили с одного места в другое, получая за свои песни хлеб и приют. Как-то, много лет назад, я тоже знавал одного певца, Андреаса из Тора.
В зале наступила такая тишина, что было ясно слышно потрескивание факелов.
Певец прикоснулся к струнам своей лиры.
"Я спою об осаде Ара, Блистательнейшего Ара.
Я расскажу о стенах Славного города Ар,
О давно минувшей осаде Бесстрашного города Ара.
О шпилях высоких на башнях Славного города Ар."
У меня не было никакого желания слушать эту песню. Я сидел и глядел в свой наполненный пагой кубок.
Певец продолжал:
"Я спою о прекрасной Талене,
О гневе убара Марленуса,
Убара бесстрашного Ара,
Из славного города Ар."
Мне совершенно не хотелось слушать эту песню. Меня раздражал восторг, написанный на лицах присутствующих, их внимание и безмолвное восхищение этим пустым набором слов, бессмысленными звуками, срывающимися с губ слепца.
"О том расскажу, чьи кудри
горели, как шкура ларла,
О нем, кто пришел однажды
Под стены города Ар.
О нем, о Тэрле Бристольском…"
Я взглянул на Телиму, стоящую рядом с моим похожим на трон креслом. Ее глаза были подернуты влагой, а взгляд, казалось, растворился в словах песни. Она — всего лишь девчонка с ренсоводческих плантаций, напомнил я себе. Ей наверняка никогда прежде не доводилось слышать певца. И ведь хотел отправить ее на кухню, а не отправил. А теперь еще и чувствую ее руку на своем плече. И делаю при этом вид, что ничего не замечаю.
Факелы уже догорали, а певец все рассказывал о вероломстве Па-Кура, предводителя убийц, возглавившего орды захватчиков, напавших на Ар после того, как из города был украден Домашний Камень; он пел о знаменах и черных шлемах, о взмывших вверх штандартах и о солнечных лучах, сверкающих на воздетых к небу стальных клинках, об осажденных башнях и героических деяниях их защитников, о ни на минуту не прекращающих посылать свой смертоносный груз катапультах из древесины ка-ла-на, о несмолкающем грохоте барабанов и реве рогов, о звоне клинков и предсмертных криках людей; он пел о любви горожан к своему городу и — такой глупый, так мало знающий о людях — о храбрости человека, о его верности и преданности; пел о поединках, продолжавшихся и внутри самого Ара, у центральных ворот, о сошедшихся в смертной схватке, взвившихся над башнями наездниках на тарнах и о поединке на крыше арского Цилиндра правосудия между Па-Куром и тем, о ком, собственно, и была эта песня, — Тэрлом Бристольским.
— Почему мой убар плачет? — шепотом спросила Телима.
— Молчи, рабыня! — огрызнулся я и сбросил ее руку со своего плеча. Она поспешно подалась назад, словно только сейчас заметив, где лежала ее ладонь.
Певец закончил свой рассказ.
— Скажи, — обратился я к нему, — а был ли в действительности такой человек — Тэрл Бристольский?
Изумленный, певец обратил ко мне свой невидящий взгляд.
— Не знаю, — ответил он. — Возможно, это всего лишь песня.
Я рассмеялся.
Протянул кубок Телиме, и она снова наполнила его.
Я встал с кресла и поднял кубок; собравшиеся тут же последовали моему примеру.
— На свете есть только золото и меч! — провозгласил я.
— Золото и меч! — хором подхватили мои приверженцы. Мы выпили.
— И песни, — добавил слепой певец. Над залом повисла тишина. Я взглянул на певца.
— Да, — сказал я, протягивая к нему кубок, — и песни.
По залу прокатилась волна одобрительных криков. Мы снова выпили.
— Хорошенько угостите этого певца, — усаживаясь в кресло, бросил я прислуживающим за столами рабам и повернулся к Луме, рабыне и моему первому помощнику в делах, сидевшей в конце стола в цепях и ошейнике.
— Завтра, — сказал я ей, — перед тем, как певец снова отправится в путь, наполнить его капюшон золотом.
— Да, хозяин, — ответила Лума.
Над столами поднялась буря восторженных криков; все восхищались моей щедростью и благородством, многие из гостей с силой ударяли сжатой в кулак правой рукой по левому плечу, что по горианской традиции означает аплодисменты.