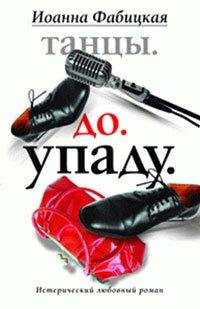— Я — писатель! — решительно, твёрдо, но не совсем уверенно заявил мой собеседник.
— Вот это да! — оживился я. — Первый раз в жизни беседую с настоящим писателем! А что вы написали и можно ли прочитать какое-либо ваше произведение?
— Увы, я написал три романа, но пока они не опубликованы. Вы же понимаете, какие времена наступили.
— В смысле?
— Ну, кто сейчас что читает? Кучка эстетов, снобов и всяких других типов, которым нечего делать. Они читают или на пляже, или во дворцах от скуки и пресыщения, или в больницах, или в хижинах, или в тюрьмах, или в домах престарелых для того, чтобы забыться, когда кончается водка или морфий. О, эти чёртовы компьютеры!
— Что-то слишком мрачную картину представили вы передо мною. Не так всё плохо и печально.
— Вы так считаете?
— Да, я так считаю, — уверенно ответил я. — Масса мыслящих и неординарных людей увлекаются и будут увлекаться чтением. Вы знаете, у меня есть друг. Так вот… Он абсолютно не воспринимает книги в электронном виде. Он ненавидит их! Он может читать их только в натуре. Ну, ему доставляет удовольствие перелистывать страницы, перед этим сдабривая слюной пальцы, делать закладки между листами перед тем, как окончить чтение, куда-то отлучиться на время или уснуть. Он любит держать в руках нечто живое, натуральное, трепещущее страницами, как плотью, источающее тонкий и свежий запах типографских красок, или такой же, но медленно угасающий запах, несущий в себе намёк на тлен, или полностью поглощённый этим самым тленом! Книги, как люди. Они так же рождаются, стареют, а потом умирают. Бывает, что сгорают.
— Боже, как точно и тонко подмечено!
— Книга рождается чистенькой, новенькой и свежей. Но потом постепенно истончается под воздействием пальцев, перелистывающих её, и рук, переносящих и переставляющих её на полках. А потом страницы её всё более и более желтеют и увядают, как листья осенью, а затем наступает её кончина или забвение. Она или пылится где-то на чердаке, или в библиотеке, или сжигается и выбрасывается на помойку. Я бы предпочёл быть безжалостно и равнодушно сожжённым, чем в одиночестве и в забвении, нечитанным и не перечитанным, тоскливо доживать свои дни где-нибудь на верхней полке в библиотеке, или в чулане, или в подвале, или на чердаке. Вот так…
— Да, как это вы образно… — удивлённо произнёс Прокл, внимательно вглядываясь в меня. — Но ведь есть книги, которые подолгу читают и перечитывают целые поколения?!
— Есть такие, но эти ваши поколения всё реже и реже касаются их страниц, и не только живых страниц, но и электронных клавиш с целью что-то почитать. Увы, увы… — с грустью произнёс я. — Ну, заставьте сейчас кого-то внимательно, с наслаждением и трепетом прочитать «Анну Каренину», или «Даму с собачкой», или хотя бы «Евгения Онегина», или «Героя нашего времени», или «Человека в футляре», или что-нибудь из Бальзака, Гюго или Фейхтвангера, или иное что-либо в этом роде! Найдутся единицы, которых можно будет пересчитать по пальцам!
— Вы не правы! — возмутился Прокл. — Во все времена среди тысяч и тысяч не читающих людей были всего десятки читающих. Ну и что? Цивилизация жива и относительно здорова, и развивается довольно бурными темпами. Это как стройка. На нескольких вбитых сваях покоится тяжёлое и монументальное здание. Свай никто не видит, но зданием восхищаются все. Ну и хорошо, ну и замечательно!
Официантка принесла заказ. Мы с Проклом наполнили стограммовые рюмки под завязку.
— За здоровье!
— За здоровье!
А потом началось пиршество. Огромные ароматные раки, запиваемые неплохим пивом, сменились белоснежной и не менее ароматной картошкой. Малосольная селёдка, очень недурственная, сопровождаемая тонкими колечками лука, превосходно шла под водку, запасы которой вдруг в определённый момент истощились, и мы потребовали его немедленного пополнения. А потом наступил момент тяжких раздумий и философских размышлений и озарений.
— Я хочу прочитать одно мало известное стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, — глухо сказал Прокл.
— Внимательно слушаю.
«Мы пьём из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами.
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И всё, что обольщало нас,
С завязкой исчезает.
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был — мечта,
И что она — не наша…».
— Великолепно, — задумчиво пробормотал я. — Боже мой, откуда берётся талант, и почему он посещает только души избранных? Почему такая несправедливость?
— Ну, если бы талант посещал души всех, то тогда его, как такового, не существовало бы в природе.
— Да, вы правы, — усмехнулся я. — Упаси нас Бог от сплошного нивелирования и уравнивания.
— Собственно, это одно и тоже.
— Да, вы снова правы. А хотите, я прочитаю вам одно четверостишие Омара Хайяма?
— Готов слушать!
— Так вот…
«Гостившие здесь прежде поколенья
Дремали в грёзах самообольщенья.
Садись и пей! Все речи мудрецов —
Пустынный прах и ветра дуновенье!».
— Боже, как хорошо сказано!
— За вечность!
— За вечность!
— За бесконечность!
— За бесконечность!
Мы осушили ещё по паре рюмок, опечалились и задумались.
— Как сказал Оскар Уальд: «Всякое действие ограничено и относительно. Беспредельна и абсолютна лишь грёза», — горестно произнёс Прокл и чуть не заплакал.
Мы снова глубоко задумались.
— «Я забыла поздравить Вас с блестящей победой над Четвёртым Миром, Величайший Господин!», — щёлкнуло у меня в голове.
— «Спасибо, моя любимая и обожаемая Милли!», — восторженно и мысленно произнёс я.
— «Так уж любимая и обожаемая?! А Стелла, а Рита, а Альба?!».
— «Ты явно зациклилась. Женщины могут быть приятными, желанными, вожделенными, вызывающими страсть и удовлетворяющими её, но среди них обожаема и любима всего лишь одна. Это ты! Хватит злиться, бесноваться, нервничать и накручивать себя и меня!».
— «Я хочу тебя увидеть».
— «Хоть сейчас!».
— «Я хочу быть с тобой!».
— «Слава Богу! Свершилось чудо! Я готов быть всецело поглощённым тобой сию минуту и отдаться в объятия страсти, но раки ещё не доедены, пиво и водка недопиты!».
— «Боже! Всё одно и тоже! Из века в век!».
— «Любовь моя! Ну, куда ты от меня денешься!? У нас вся ночь впереди. Но это в недалёком будущем. А раки, пиво и водка — они в настоящем».
— Господин Альтер! — прорвался сквозь туман сознания озабоченный голос Прокла. — Вы себя хорошо чувствуете?