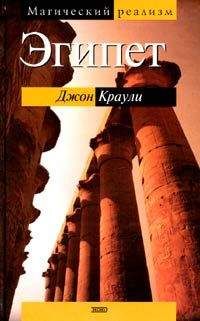вышел поутру из ворот палаццо, повернул направо и, опираясь на кривую оливковую палку, которую носил вместо трости, добрался на исходе утра к подножию того высокого холма, что звался Яникулом. Такую епитимью наложил на него архиепископ: во всякий день, когда ему достанет сил (теперь уже не каждый день, но в те дни, когда он понимал, что иначе нельзя), подниматься крутой дорогой (с каждым разом становившейся все круче) на вершину, к монастырю Сан-Пьетро-ин-Монторио и церкви того же имени.
В тот день он двинулся вверх по холму с мыслью о том, что не сможет добраться до церкви, но эта же мысль в последнее время посещала его всякий раз, как он делал первые шаги по тропе. И так же, как во все предыдущие дни, он ошибся. Долго ли, коротко, а он уже стоял на самом верху, на широкой террасе, и ждал, пока его сердце и легкие вспомнят, как дышать.
Монастырь Сан-Пьетро, основанный испанской королевой, был простым и теплым – не чета огромным романским церквам, надменным и вселявшим робость. Он походил на живое существо, и существо это было добрым – по крайней мере, к нему, Хью О’Нилу; всегда приветствовал его радушно и, не нарушая его скорби, давал утешение. Отсюда, с террасы, открывался такой вид, от которого на сердце нисходил покой: красные черепичные крыши Трастевере, торжественные руины Древнего Рима, темные пирамидальные тополя, подобных которым Хью никогда не встречал на родине, а дальше, за городом, – голубые холмы, которым он не знал названия. Пока он смотрел на все это, в глазах у него помутилось, но потом прояснилось вновь. Он повернулся и двинулся по широким ступеням к воротам церкви, которые всегда стояли незапертые.
Утреннюю мессу уже отслужили. Певчие и служки заканчивали уборку и уходили, напоследок преклоняя колени перед алтарем, где в кивории, похожем на солнце в ореоле лучей, покоилась освященная гостия.
Над алтарем висело «Преображение» – кисти Рафаэлло, как сказали О’Нилу [118]: Иисус, восставший из гроба в белых пеленах (как те, в которые когда-то, давным-давно, закутали слепого поэта О’Махона), поднимался в небо; ноги его были босы, взор устремлен ввысь – к тому, что он видел там, наверху. По обе руки от Христа возносились какие-то бородачи: Хью так и не узнал, кто они такие.
Войдя в неф, он сел там, где садился всегда. Внизу, под плитами тибурского камня, похожими на облака, лежали усопшие. Прямо здесь, под ногами, – его сын, последний барон Данганнон; вон там – Рори О’Доннел, граф Тирконнел, а рядом – брат Рори, Катбарр. Все трое умерли от римской лихорадки вскоре после того, как О’Нил привез их сюда, спасаясь от английских волков. Не лучше ли было умереть там, стоя на своей земле, повернувшись лицом к врагу? На этот вопрос время так и не дало ответа.
Там, под полом, было приготовлено место и для него – отдельная гробница, в стороне от прочих. Этой чести решили удостоить его добрые люди – архиепископ, папские чиновники, и он не хотел обижать их отказом, хотя сам предпочел бы лежать среди остальных, надеясь воскреснуть в Судный день вместе с ними, а до тех пор дремать в их компании. D. O. M. Hugonis principis ONelli ossa, – будет гласить доска на стене: «Во имя Бога лучшего, величайшего: здесь покоятся кости владетеля О’Нила». Как же так? Почему он видит эти буквы, врезанные в стену, уже сейчас, хотя им еще только предстояло возникнуть? Он содрогнулся от страшного предчувствия, и в глазах потемнело вновь. Затем зрение вернулось, но явило ему уже другую картину. Плиты пола Сан-Пьетро с их кремовыми разводами и завитками стали небом, по которому плыли облака. Он, Хью О’Нил, рассматривал это небо как бы сверху – верно, таким видят его чайки и поморники. Далеко внизу темнела земля, уходившая за горизонт на западе, и там сейчас была зима; прошли годы. Он шел по этой земле сквозь кружащие хлопья снега, и каждый его шаг был стремителен и огромен. Он видел армии на марше, испанские терции, немецких ландскнехтов, какой-то вооруженный сброд; кровь на снегу, дома в огне, мужчин и женщин, подвешенных на черных пыточных колесах; но все это было неподвижным, как росписи на римских стенах. Начиналась война, и О’Нил откуда-то знал, что она будет ужаснее всех, какие он видел и в каких сражался; самая жестокая, самая бесполезная; и она будет длиться годы; и даже ангелы – которые, он чуял, склоняются ближе к земле – не смогут предотвратить ее, а если бы и могли, все равно бы не стали.
Впереди чернело море; он двинулся дальше на запад, шагая по морю, как по суше, и волны бурлили прямо у него под ногами, но коснуться его не могли. И сердце его наполнилось, едва не разрываясь в груди, потому что перед ним открылись берега его острова. В портах толпились английские военные суда, а вдоль берегов росли города, новые дома и новые замки. За прибрежной полосой и мысами земля зеленела, не тронутая снегом; озера и холмы были точь-в-точь такими, как в детстве, – все исцелилось или, быть может, никогда и не было изранено: коровы и овцы, резвые кони, мальчики и девочки. И сам он преобразился так, что не узнать. Холмы его Тир-Оуэна, родного и потерянного, как будто медленно ворочались во сне. Он заглянул дальше, поверх холмов. Там, далеко впереди, шагала через поля и рощи тонкая, стройная фигурка, и шаг ее был еще стремительней и шире, чем у Хью О’Нила: пеший гонец, чью загадку он так и не смог разгадать. Скороход обернулся и посмотрел на Хью: иди за мной. Хью сделал еще шаг. Перед ним высился длинный курган, из которого поэт О’Махон когда-то вызвал бледное воинство. Не раздалось ни звука, но он услышал приветственный звон мечей, бьющих о щиты, и женщину, которая пела на его языке, ни на вздох не прерывая песни, и песнь все лилась и текла, то опадая, то подымаясь ввысь, как бесконечное пение тюленей на дальнем морском берегу.
Все они его знали, и он знал, что его здесь ждут; и, когда он сделал еще шаг вперед, двери холмов отворились, чтобы он вошел.
С тех пор как я начал сочинять книги, моя фантазия словно сорвалась с цепи: она без устали выискивала всякие странные и невероятные темы, которые я по большей части отвергал как непригодные. Но три-четыре я все же взял на