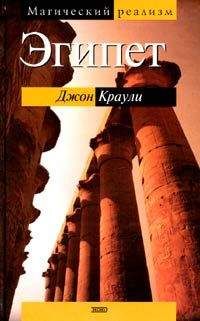голосом, но когда пел, звуки лились легко, и звонко, и сладко. Только те, кто пускал к себе певца на ужин и на ночлег, знали, что это не мальчик и вообще не мужчина; но истинная природа этой странной гостьи называлась
contúirteach focal – опасным словом, из тех, которые вслух не произносят.
Она не стеснялась просить у кого угодно то, в чем нуждалась, но не любила давать что-то взамен. Тех, кто отказывал ей, единственной в своем роде, она осыпала насмешками, а тем, над кем она посмеялась, делалось так худо, что они забывали спросить, что это было, кого они сейчас видели, кто говорил с ними и что сказал; забывали все плохое разом. Она приходила ко дворам военачальников и лордов, не присягая и не пытаясь угодить никому; от тех, кто не оказывал ей почестей, она уходила. Она знала, в какую сторону должна идти, но уже не знала, откуда пришла и куда именно придет. Она шла и шла дальше: великий бард, творящий мир своей песнью.

Королева была уже шесть лет как мертва, а Джон Ди умирал. Все его книги, алхимические приборы и даже подарки королевы были распроданы ради куска хлеба; новый король-шотландец, боявшийся магии пуще всего на свете, не оценил ту долгую и тяжкую службу, которую он нес во имя Ее Величества. Остался только кварцевый шарик цвета кротовьей шкурки, в котором сидел пойманный дух; доктор долгое время считал, что это ангел, но теперь начал сомневаться. Война между всеми народами, которую этот ангел показывал ему когда-то в шаре, точно в оке бури, взяла передышку, и на половину мира снизошел покой; но это было ненадолго; все изменится; все менялось уже сейчас.
Когда стало понятно, что на смену первой Армаде придет вторая, Джон Ди утвердился в мысли, что у испанцев есть один великий союзник, которого нет и не может быть у протестантской королевы, – все Господства, Силы и Власти небес. Очевидно же, что ангелы примут сторону католической Испании; пусть они и не отдавали никому предпочтения в делах земных, но слишком многие из них – целые воинства и племена – любили мессу, любили церковные обряды, в которых перечисляли их чины с любовью и почтением, любили благовония, досягавшие их ноздрей (как-никак, обоняние – единственное доступное им чувство), и песнопения scholae cantorum, церковных хоров. Силы, присущие этим ангелам, до сих пор не были сведены в каталог, а если и были, то об этом не написал ни Арегопагит, ни Аквинат. Так или иначе, на него, Джона Ди, ложится обязанность выявлять таких ангелов и препятствовать им по мере сил, отвлекая, мороча и сбивая с толку. Он до сих пор встречал и знал лишь немногих – тех, что поклялись правдиво отвечать на его вопросы; что ж, он станет задавать такие вопросы, которых ни они, ни высшие чины над ними еще не слыхивали; чтобы найти на них правдивые ответы, у ангелов уйдут годы. И это будет последняя служба, которую сослужит своей королеве.
Но когда по извилистым тропам стеганографии до него дошли вести, что вторая, малая, Армада разгромлена при Кинсейле, доктор Ди растерялся. Ни в обычных беседах, ни внезапными голосами ангелы до сих пор не говорили ему ничего об этой битве и о своем участии в ней – если они, конечно, участвовали. Вдобавок казалось, что они устали, как ветераны, одержавшие победу, но лишь ценой огромных жертв, от которых уже не оправиться. И это было самое странное.
Теперь, вернувшись в Мортлейк-на-Темзе, в свой старый дом, где на хозяйстве оставалась лишь одна его старшая дочь, он видел, что его забыли почти все, а для остальных он был то ли призраком из прошлого, ушедшего мира, то ли паяцем в домашних туфлях из какой-то дурацкой пьески. Впрямь ли он изменил исход сражения при Кинсейле? Отвлек небесные силы, помешал им вступить в битву? Скорее всего, нет. Ведь ангельские воинства никогда не заботились об исходе событий, даже если участвовали в них – будь то по доброй воле или по принуждению. Все исходы предрешены и запечатлены в Fiat lux [117], и ангелам нет до них дела. И все же Джону Ди было любопытно: явились ли они над полем битвы в ту рождественскую ночь – подать надежду без обещания тем армиям, судьбы которых они знать не могли? Впрочем, едва ли: он не верил, что преуспел настолько.
То, что он увидел сейчас в кристалле, когда облака в нем разошлись, было непохоже ни на что из виденного прежде. Ни императорских и королевских армий, ни небесных башен, ни ангельских воинств, но только длинный каменистый берег. Западное побережье Ирландии, понял он. Там, где когда-то погибали на скалах испанские корабли, теперь возводились корабли иные, не из тех, что могут нести смертного; корабли, сотканные из времени иного века, серебрящиеся, как плавник, с парусами из паутины; и те, кто их строил, а после всходил на них и отчаливал в море, были такие же серебристые, тонкие и прозрачные. Они потерпели поражение; они бежали. Их путь лежал на Запад, на Острова Блаженных, к новым берегам и дальним холмам, лесам и рощам, которых они еще не видали. Может статься, этих мест и не было на свете, пока они не достигали их и не вызывали к бытию. Внутренним слухом Джон Ди услышал голос: Вот что случится скоро. Мы не знаем, когда. Что ж, так тому и быть. Он наклонился над сияющим камнем, и сама его душа, обретшая пророческую мощь, стала вещать в полный голос. Она открыла ему, что теперь, когда всему пришел конец, пройдет время, и все позабудут о том, какие силы доподлинно сражались в этих войнах, а помнить будут только смертных: королей и королев, солдат, священников и горожан.

Хью О’Нил тоже умирал, с каждым днем приближаясь к смерти немного ближе и все быстрее. Одна за другой отпадали или увядали силы и части его существа; он видал, как это бывает со стариками, и теперь точно так же происходило с ним, хотя видеть со стороны – совсем не то же самое, что испытывать самому. Дело было не в утратах, не в слабости, которую мог заметить всякий, а в чувстве стыда. Стыд, и вина, и страх. Смущение перед лицом здоровых и бодрых, которые пока ничего такого не знают. И все же он