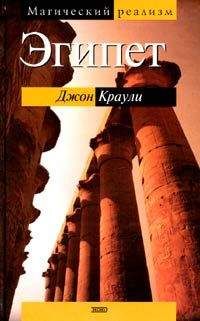На подступах к Меллифонту выстроились английские солдаты – длинный живой коридор, в конце которого, перед самой дверью, стоял лорд Маунтджой, как всегда, весь в черном. У Хью О’Нила мелькнула мысль, не повернуть ли сейчас и не умчаться ли прочь? С какой стати он добровольно идет в прямо в руки Маунтджою? Но сэр Гаррет, ехавший рядом, прочитал эту мысль по легчайшим переменам в его движениях и позе. Он взял О’Нила за руку, улыбнулся и кивнул:
да, именно за этим мы сюда приехали, и ты это сделаешь, потому что на кону стоит моя жизнь. И граф не посмел опозорить своего друга.
Он спешился и вошел в дом. Маунтджой отступил, поднявшись по лестнице на несколько ступеней, а Хью О’Нил, граф Тирон, встал перед ним, склонив голову. Сэр Гаррет помог ему опуститься на колени: суставы плохо гнулись. Затем он заговорил, первым делом назвав себя, свой титул и свой клан.
Он признал свое поражение в тех словах, которые подсказал ему секретарь Маунтджоя. Он отрекся от всех своих владений, доходов и власти. Отрекся от союза с испанцами и от титула верховного О’Нила. Все еще стоя на коленях, хотя ноги уже дрожали от напряжения, и держа Гаррета за руку, он повторил за секретарем, что отринет все варварские обычаи, если ему будет дозволено вернуться на Север, в земли его предков. Он пообещал, что будет строить там английские дома и хорошие дороги и приучать тамошний народ к английским обычаям, насколько это вообще возможно. Он будет чтить королеву во всех своих поступках и помогать слугам королевы во всем, что они от него потребуют. Все это время Хью не переставал плакать; это ничуть не удивило Гаррета Мура, знавшего, что так и будет, но лорд Маунтджой был поражен до глубины души. Такой гордый человек и так низко пал! Как ему не стыдно проливать эти позорные слезы? Лорд-наместник подошел к графу и с неловкой учтивостью помог ему встать; Хью громко застонал, то ли от боли в ногах, то ли от горя, и коротышка Маунтджой поддержал его, чтобы он не рухнул обратно. «Милорд, – шепнул он, – мы сегодня сделали доброе дело».
Графа провели в дом, усадили перед камином, Лорд Маунтджой сел напротив; секретарь тенью пристроился у него за плечом.
– Уверяю вас, – сказал лорд-наместник, – ваш графский титул непременно будет восстановлен. У меня нет такой власти, чтобы отнять его. И все земли, которыми вы владели прежде, к вам вернутся. Не беспокойтесь за свой клан и за сыновей – они тоже не пострадают. Даю вам слово.
Еще по дороге в Меллифонт сэр Гаррет говорил О’Нилу, что ему предложат нечто подобное в обмен на капитуляцию. Хью ему не поверил. И сейчас, потеряв дар речи, он уставился на Маунтджоя – человека, который любил убивать, делал это хорошо и гордился собой за это. Повисла долгая тишина. Затем Маунтджой усмехнулся, словно через силу, хлопнул себя по коленям и пригласил графа отужинать.
Оставалось только одно. Наутро Хью и Гаррет со стражей, вооруженной до зубов, выехали в Дублин, чтобы Хью повторил свои отречения и обещания по всей форме перед советом. И только там, у ворот тюрьмы, которой ему удавалось избегать так долго, граф узнал то, о чем Маунтджой знал уже не первый день, но так и не сказал ему даже шепотом. Об этом знали все, и только об этом были все разговоры.
Королева умерла.
Когда Хью О’Нил сел на коня в Туллахоге и простился с сыном, она уже неделю как была мертва. Она уже больше недели была мертва, когда он вошел в дом сэра Гаррета и отдал в руки Маунтджоя свою жизнь – жизнь, прошедшую под властью этой королевы, которая то упрекала его, то плакала вместе с ним, то смеялась, глядя на него из черного зеркала Джона Ди, пока он не сорвал его с шеи и не выбросил прочь. Годами она вела на него охоту, как на оленя, спуская на него своих псов – лордов-протекторов и лордов-наместников; годами она жалила его своим змеиным языком. Она никогда его не любила – она не умела любить. Когда он заплакал, одни советники отвернулись, другие смерили его холодным взглядом. Они-то все уже знали. Они знали, что полномочия Маунтджоя как лорда-наместника закончились со смертью королевы, и официально у него не было права ни принять отречение О’Нилла в Меллифонте, ни лишить его титула; все это знали – и только О’Нил не знал.
Умерла. Внезапно, как тогда под Кинсейлом, в ночь середины зимы, Хью почудилось что Время потекло назад или даже вперед и назад одновременно, закручиваясь в какую-то головокружительную спираль; что королева сейчас еще жива, а Смерть ее скачет в прошлое, в Меллифонт, чтобы забрать ее в тот самый миг, когда он, Хью, преклонил колени и отдал ей все, что имел.
Он начал смеяться. Поначалу казалось, что это не смех, а рыдания; но серый дождь за окном уже почти унялся, возвращалось апрельское солнце, и Хью смеялся все громче, прямо в лицо всем этим ошарашенным и растерянным советникам, их секретарям и страже. Это был смех увядших, утративших силу богов – смех, который когда-то мог разрушить старый мир или сотворить новый, а теперь больше не мог.

Пришел май; деревья Фландрии зазеленели, а широкие поля, на которых так удобно строиться войскам, и наступать, и отступать, покрылись маками, и те кивали под ветром, словно соглашаясь, что здесь прольется кровь, такая же красная, как они сами; и в запахе их была сладость воспоминаний о сыновьях и мужьях, отцах и братьях, уснувших на этих полях навсегда. Семь лет прошло с тех пор, как было все потеряно при Кинсейле и как простился с жизнью в Симанкасе Красный Хью. Генри О’Нил стал солдатом и служил в ирландском полку – был такой полк в армии Альбрехта Австрийского, кардинала, эрцгерцога и правителя Нидерландов. Генри дослужился до капитана и набрался храбрости попросить своего полковника отпустить его в Брюссель: он хотел представиться эрцгерцогу и его соправительнице, высокой Изабелле Кларе, дочери короля испанского. Полковник отпустил его, хотя и сомневался, что Генри сможет добиться такой аудиенции. Но Генри знал, что Альбрехт помнит о нем и о его отце, о давней борьбе с английскими еретиками. Знал он и то, что эрцгерцог Альбрехт в молодости принял малый духовный сан: в том же возрасте,