Клодон посмотрел на ее руки с короткими топорными пальцами. Откуда у женщины с такими руками такие ноги?
Когда она ушла, он, в третий раз на дню, начал мастурбировать, воображая себе женщину молодую, сильную, с огоньком (но умеренным), с руками как у жены пристава и ногами как у этой… Результат его поразил!
С тех пор он поделил всех деревенских женщин на две категории. У одной, куда входили примерно две трети, ноги интереса не представляли, зато другая, чья численность приятно удивила его… Этим привилегированным особам он улыбался, норовил пройтись с ними рядом; в его фантазиях они оборачивались к нему и касались его чьими-то чужими – большей частью – руками. Если бы кто спросил (но никто не спрашивал – ни скорые на упрек старейшины, ни лоботрясы вроде него), он бы горько пожаловался, что ноги жены пристава совсем не подходят к ее прекрасным рукам.
В Колхари Клодон усовершенствовал, углубил, расширил свои желания. На первых порах его поразило, что примерно четверть городских женщин ходят в башмаках – и зажиточные, и бедные тоже. Целое сословие, чьи подъемы и пальцы скрывает гнусная кожа или парча (для него не менее гнусная). Примерно столько же носили сандалии, жестоко его дразня своими ремешками и пряжками. Пришлось поневоле ограничиться босоногими, которые, и мужчины и женщины, здесь водились в подавляющем большинстве. Пробыв неделю в большом городе, он сделал удручающий вывод, ускользавший от него дома: красивые руки бывают в основном у богатых женщин, которые как раз и ходят обутые.
Впрочем, усовершенстование, углубление и расширение, о которых мы говорили, не имели отношения к женским рукам и ногам. Это касалось… глаз! Он открыл их для себя в свой первый месяц, шатаясь по Мосту Утраченных Желаний.
Женщины и девчонки – и некоторые мужчины, – промышлявшие на мосту, подкрашивали глаза, рисуя вокруг них темные крылья. Поначалу это не столько возбуждало его, сколько указывало на место, занимаемое ими в бесконечной цепочке купли-продажи, на мосту не менее оживленной, чем на соседнем рынке. Казалось бы, что мужественность, столь ценимая Клодоном, несмотря на однополые сношения, в которые ему, вопреки природным наклонностям, иногда приходилось вступать, никаких особых знаков не требует. Но мужчины с моста, обычно немолодые, пародировали ее, надевая поверх лохмотьев латные пояса, грубя клиентам и ругаясь куда грязнее, чем было здесь принято. Вдобавок они подкрашивали только один свой глаз, и знак женственности, поделенный надвое, становился мужским.
Глядя на них, Клодон находил, что и он не хуже. Он тоже всегда старался вооружиться, хотя бы камень в набедренную повязку заткнуть; и кожаный браслет носил выше локтя, хотя у них в деревне не было такого обычая; и язык его в деревне не одобряли.
Несколько раз он и глаз подводил, поступаясь своей неприметностью – краску ему одалживала девушка, державшая кусочек синего воска у себя в кушаке, – это помогало ему почувствовать себя настоящим мужчиной. Перестав это делать по примеру большинства парней на мосту, он испытал чувство утраты, будто стал ближе к той самой двусмысленности, которая так удручала его в этом переходном периоде.
Под мостом, на ближнем к рынку конце, бывало не менее оживленно, чем на самом мосту: лестницы с обеих его сторон вели к отхожим канавам.
Мальчишки шмыгали вверх и вниз, девчонки снизу кричали что-то подружкам, оставшимся наверху.
Однажды Клодон, разыскивая своего варвара, спустился туда. Наверху говорили, что утром из воды выловили тело аристократа. В те варварские времена в речку то и дело бросали трупы, обычно солдат и нищих, но этот увезли еще до того, как Клодон пришел. Ему вздумалось выйти по камням на середину Кхоры. Зеленая вода пенилась, омывая тележные колеса, битые горшки, рваные сети, застрявшую фруктовую кожуру и куклу без головы и одной руки.
Одна женщина ругалась с солдатом, другая смеялась. Клодон не видел их, хотя из-за эха казалось, что они где-то рядом. Он перешел на другой камень посмотреть, откуда доносятся голоса.
Еще какая-то женщина преклонила колени на гранитной глыбе недалеко от него, отставив босую ногу назад. Судя по лодыжке и мокрой подошве, пальцы тоже многое обещали. Женщины думают, что ты смотришь только на их груди и задницы. Груди и задницы нравились Клодону не меньше, чем всем остальным, но раз женщины не думают, что ты смотришь на что-то еще, он полагал себя вправе подойти к ней поближе.
Кто она – из этих, с моста? Он не узнавал ее. Она повернулась к нему мокрым умытым лицом и улыбнулась ласково, но с легкой тревогой. Краску небось с глаз смывала, подумал он, но тут же и усомнился.
Она передвинула ногу вперед, и он увидел, что глаза – вернее, веки – у нее темные, и эти теневые кольца придают радужке цвет корицы, а белку – оттенок слоновой кости. Длинные пальцы ступни упирались в камень, и такой изящной ножки он еще не видал. Овальные ногти рук завершались дочиста отмытыми полумесяцами цвета очищенных тыквенных семечек. Просто дух от таких захватывало, но самым красивым в ней все-таки были глаза – Клодон понимал это ясно и бесповоротно. И чтобы глаза так действовали, губы под ними должны улыбаться или смеяться.
Он понимал все это без слов и даже без мыслей, хотя сведенные плечи и натянувшиеся подколенные связки сами по себе были мыслями.
Понял он также, чего пытались достичь женщины с моста, крася себе глаза; от этой картины мускулы у него в паху сжались – сейчас он, донельзя счастливый, упадет в обморок…
Но он не упал.
Клодон, вор, грубиян, задира, в рубцах от кнута – он украсится новыми за разбой, когда будет почти вдвое старше – улыбнулся.
Когда тебе улыбаются, нужно улыбнуться в ответ, иначе другой человек нахмурится, загрустит или отвернется – а ему хотелось, чтобы эта женщина продолжала улыбаться ему, пока безымянные боги, перекраивая мир, не затопят пустыню морем.
8. Улыбаясь, он неожиданно, впервые за долгое время, вспомнил девчонку с заячьей губой, которую много раз принуждал ему отдаваться. У нее были такие же глаза!
Больше она ничем не могла похвалиться – ни руками, как у жены пристава, ни ногами, как у своей родной тетки.
Он обратил на нее внимание лишь потому, что Имрог, кузнечный подмастерье, иногда спал с ней.
Клодон стал ходить за ней по пятам и как-то вечером, когда она, усталая, позволила ему обнять себя за плечи, попросту ее повалил. Его дружок караулил, а Клодон, делая свое дело, думал о ее тетке и о жене пристава. Это, как он и полагал, взбесило Имрога, здоровенного парня старше Клодона и ничуть не лучше его – но к нему, поскольку он был работящий, цеплялись втрое меньше, чем к Клодону.
Но глаза у нее были такие же, это да – а он и не замечал их из-за ее дурацкой губы и еще потому, что она ему ни разу не улыбнулась.
Он впервые ощутил нечто вроде вины за то, что ее насиловал, и больше ничего такого не совершал. Позвольте вам напомнить, что речь у нас идет о желании.
А вы думали, что о похоти?
И не можете найти упоминаний о желании в предыдущем рассказе? Перечитайте и увидите на каждой странице, как оно росло и развивалось в сознании Клодона. Оно было в нем еще до того, как он украл жареную козлятину. Мелькало в его мыслях, когда он висел в углу житницы, ожидая наказания. Он думал о нем, подкрадываясь в ночь своего бегства к хижине родича-пристава, и на рассвете следующего дня, когда сидел у дороги и чуть не плакал. Думал, сидя на перилах моста перед тем, как к нему подошел хозяин мертвецкой. Желание таится в каждой паузе, между всеми предложениями предыдущей истории и продолжит это делать в последующей.
Какие бы материальные силы и неведомые ему экономические мотивы ни влияли на Клодона, желание всегда лениво ждало впереди, чтобы тащить его в нужную сторону. Какая бы выгода или каприз ни манили его, желание всегда маниакально толкало сзади. Если оно до сих пор не проглядывало в нашем рассказе, то лишь потому, что его можно уподобить прорехе на месте выбившейся из ткани нити: опытный ткач сразу поймет, что за нить там была, по расположению соседних.
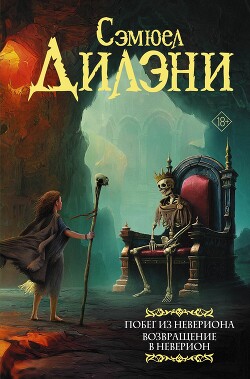



![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](https://cdn.my-library.info/books/50316/50316.jpg)