Сам Клодон стал куда толще, громогласней и забулдыжнее, чем был десять лет назад. И похоти у него поубавилось – без выпивки он уже ничего не мог. Да, он часто вспоминал ту женщину под мостом, но мы сейчас говорим не о желании, а о похоти. Беда в том, что он и перепив ничего не мог; грань была узкая, и ему все реже представлялся случай ее соблюсти.
Три раза из пяти последних, когда Клодон был с женщиной, плакал он – но так и не понял, почему плакала та, придурковатая, десять лет назад.
Но как-то утром, когда снаружи переругивались две сойки, младший просунул голову за рваную входную завесу и прокричал:
– Эй вы, поднимайтесь! Я вам двух баб привел – горячие обе, на все горазды. Я с ними со вчерашнего колочусь и чуть не поджарился. – Снаружи донесся смех. – У меня и пиво есть, позабавимся.
И в хижину вошли женщины.
– Уйди с дороги, – сказала одна – маленькая, пухлая, с пронзительным голосом. – Дай поглядеть, что за разбойничий притон у вас тут. – Другая, высокая, больше помалкивала, только с первой шепталась. И смеялись они по-разному: пухлая хохотала и махала рукой, длинная зажимала рот, и у нее тряслись плечи.
Бабы, значит? Клодон сел. Им и двадцати пяти еще не было, а он достиг возраста, когда всех, кто моложе тебя, считаешь детьми. Длинная опять зашептала что-то на ухо пухлой, показывая на Клодона.
– Так и есть! Твоя правда! – взвизгнула та.
Ей отозвались сойки.
Клодон не успел оглянуться, как уже обнимал их обеих. И смеялся, невольно думая, что десять лет назад это порадовало бы его куда больше.
– Эй, – взмолился он, маясь с похмелья, – дайте сперва попить.
Тут прочухался другой вор, без рубцов.
– Смотрите-ка, кого дружок нам привел! Экие лакомые кусочки, в самый раз мне на завтрак!
– Так вас только двое? – бросила длинная. – Я думала, добрый десяток!
– Дайте попить, и я вам за десятерых отработаю, – пообещал Клодон.
Казалось бы, им полагалось предпочесть старшего, хоть он и трус: он был выше, говорил правильнее, соблюдал чистоту больше и пил меньше, чем двое других. Клодон знал, что для женщин все это важно, но этим двум явно больше нравились он и молодой парень – особенно он.
Оргия длилась три дня – а может, четыре?
Клодону запомнились лишь самые яркие картины: как он швырнул пустой пивной кувшин в лицо молодому, разбив и кувшин и лицо, а после добавил ручкой с оставшимся черепком, так что парень к стене отлетел.
– Чтоб больше не смел так делать! Чтоб больше…
– Да я ж так… дурака валял… – бормотал, утираясь, парень.
Клодон саданул ему опять и порезал себе пальцы разломившейся ручкой.
Запомнилось – или это была та же картина? – как он подал длинной руку, чтобы помочь ей встать, а она увидела его пальцы и отшатнулась. Он постоял, не зная, что делать дальше, и попытался вспомнить, что же такое сотворил молодой.
Но убил парня не пивной кувшин, нет. Клодон помнил, что было дальше. Он проснулся. На стене лежало полдневное солнце. Парень с искромсанной мордой трудился над пухлой. Сонный Клодон смотрел, как дергаются ее груди под натиском молодого. Значит, это было уже после кувшина – если он, конечно, не во сне это видел.
Еще картина – то ли в начале оргии, то ли в конце. Они с пухлой сидели под деревьями, и она прошептала, прильнув к нему:
– Ты такой страшный с этими твоими рубцами. И с женщинами, наверно, страшное делаешь, да?
Он фыркнул и погладил ее по голове.
– Ну же, – она поцеловала его, – расскажи, что ты делаешь. А может, покажешь?
– Любишь, когда грубо, да?
– Да-а! – И началось. Клодон завязал ей глаза какой-то дерюгой и то бил по лицу тонкой веткой, то просто проводил листьями по щеке; задавал ей дурацкие вопросы, заставлял ее ласкать его ртом и лизал ее сам. Она повизгивала, совершенно счастливая. Пришел старый и тоже вступил в игру. Потом выполз молодой, опираясь на плечо длинной. Он тоже захотел поиграть и, конечно, перестарался – хотя пухлая выразила недовольство только раз, когда он слишком сильно стиснул ей грудь. Завязалась ссора, в основном между старым и молодым. На этом картинка погасла.
Была ли тогда у парня рожа изрезана? Этого Клодон почему-то вспомнить не мог.
Потом они с длинной вроде бы поехали в город за пивом. (Он хотел пухлую взять, но она не захотела, а длинная сама вызвалась.) Он все спрашивал ее:
– Уверена, что хочешь вернуться? Я тебя высажу, где скажешь, и скажу, что ты так хотела.
Но она мотала головой и заявляла, что хочет с ним, а так все больше молчала. Дала лишь понять, что у пухлой крупные неприятности в Винелете, отчего та и отказалась ехать туда. Они обе собираются в Колхари.
– Да ну? – сказал Клодон. – Я там жил почти год, когда молодой был. Там и научился глаза завязывать.
Тогда длинная рассказала ему про предательницу-соседку и предателя-хахаля; рассказала, что пухлая раньше служила нянькой в доме владельца рыболовной флотилии. Жизнь у обеих женщин была достаточно сложная, и безумства последних дней ошеломляли их, как видно, не меньше, чем его самого.
Через час они вернулись, и парень тут же возопил, заглянув в телегу:
– О безымянные боги, что ж так мало-то привезли?
– На тебя не угодишь, – сказал старый. – То много тебе, то мало.
Тогда молодой точно был целехонек, не считая рубцов на спине.
Клодон помнил, что ему было по-настоящему хорошо и с пухлой, и длинной, но не помнил подробностей. Полное удовлетворение, как видно, ограничивается мгновением и в памяти не сохраняется.
В последний день Клодон так упился и вымотался, что лишь притворялся, будто кончает. Его товарищи пыхтели поблизости – хотел бы он знать, как дела у них.
К этому времени относилась, однако, самая приятная из картин.
Отлепившись от пухлой, он вышел к задней двери отлить. Его подташнивало – того и гляди снова вырвет.
Он долго стоял под прохладной луной и дышал глубоко, успокаивая желудок, а когда немного полегчало, вернулся в дом.
В окно светила луна.
Обе подружки сидели рядом. Недавно длинная нашла Клодонову краску и подвела себе глаза, хотя он даже и не просил. Это не столько соблазняло, сколько очаровывало его. Как будто совсем юная девушка накрасилась, чтобы казаться старше и опытнее. Женщины, все в поту, касались друг друга то пальцами, то губами.
Клодону они представлялись красавицами. Его не заботило, какие у них руки, ноги, глаза – он знал, что дорисует все это в воображении, если понадобится.
Парень сидел в углу, головой в колени, и бормотал:
– На кой нам две, двух нам мало…
Следующую картину непременно следовало запомнить.
Раннее утро? Вечер? Старый вор стоял в дверях, наполовину высунувшись из хижины, и ворчал:
– Свинья он, балуется сразу с двумя. Да и ты не лучше. Убью его, если хоть слово скажет. Убью!
– Ладно тебе, – сказал Клодон. – Он молодой, ублажит хоть сколько. Ты разве не такой был в его годы? Я был. Слушай: когда я в другой раз лягу с толстушкой, то отойду и позову тебя, а ты действуй.
Клодон уже сделал так один раз ради сохранения мира и не хотел повторять – а может, и не повторил вовсе. Ему помнилось, как пухлая подползла к нему по полу, дыша словно загнанный зверь, и прижалась, наполнив мягкими грудями его твердые пальцы; оба они слишком устали, чтобы продолжать, но она все равно шептала:
– Да, вот так! Да!
Не потому ли, когда они проснулись на четвертый – или на пятый – день, женщины исчезли, а с ними мул и тележка?
– Они увели, кто ж еще, свиная ты задница! – орал молодой.
Не тогда ли они со стариком и сцепились? Клодон тоже орал, но попутно смотрел, не осталось ли у них пива.
Первый-то начал молодой, как всегда, но Клодон никак не мог вспомнить, что было дальше. Он помнил, что хотел выйти, а старик его не пускал.
– Нет уж, останься! Хоть зарыть его помоги! Что мне с ним делать? Нельзя так просто взять и уйти…
– Почему нельзя? – Клодон отпихнул его, только теперь осознав, что молодой мертв, – раньше он думал, что только ранен. – Ты напачкал, тебе и прибирать.
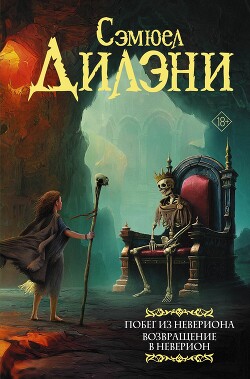



![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](https://cdn.my-library.info/books/50316/50316.jpg)