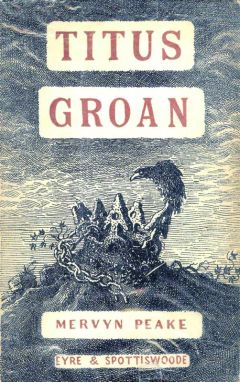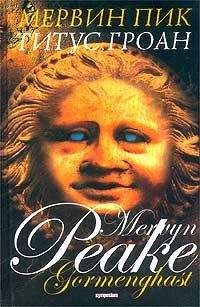Свелтер, вжавшийся, сколько мог, в стену, мгновенно понял, что его светлость спит. Флэй же получил недолгое преимущество — он видел и Графа, и повара, сам оставаясь невидимым. Но куда направляется хозяин? Свелтер на несколько секунд растерялся, не понимая, что делать, а Граф между тем почти уже поравнялся с Флэем. Это предоставило последнему шанс увлечь повара за собой, не опасаясь ни того, что его нагонят, ни удара в спину — и Флэй, заступив перед Графом, пошел впереди него, пятясь, чтобы постоянно видеть через плечо его светлости смутную фигуру своего преследователя. Он прекрасно понимал, что светильник Графа будет освещать его лицо, оставляя Свелтера в полумраке, но особых преимуществ это повару не давало, ибо тот не посмеет, из боязни разбудить графа Горменгаст, наброситься на врага.
Отступая за шагом шаг, Флэй не мог, хоть и старался, совсем не отрывать глаз от гигантской фигуры Свелтера. Близость освещенного лица его светлости не оставляла Флэю выбора — приходилось время от времени быстро поглядывать на Графа. Круглые, открытые глаза его казались остекленевшими. Капельки крови в углах рта, смертельно белая кожа.
Между тем, Свелтер уже успел подобраться к Графу поближе. Флэй и повар глядели один на другого поверх плеча своего хозяина. Все трое двигались, как единое целое. По отдельности столь разные, они выглядели сейчас слившимися в одно.
Глянув через плечо назад — так быстро, что, казалось, голова в этом и не участвовала, — Флэй обнаружил, что до ступенек осталось всего несколько футов. Маленькая процессия начала медленное восхождение по третьей лестнице. Тот, кто возглавил ее, шел, повернувшись лицом к подножию лестницы, не отрывая левой руки от железных перил. В правой поблескивал меч — поскольку и здесь, как на всякой лестнице Горменгаста, площадки освещались свечьми.
Достигнув последней ступеньки, Флэй увидел, что Граф остановился, остановив, разумеется, и следовавшую за ним груду улиточьей плоти.
Послышался голос, такой тихий, как будто он принадлежал окружавшему их полумраку — голос, исполненный невыносимой печали. В светильнике, замершем в затененной руке, догорали остатки масла. Глаза глядели сквозь господина Флэя, сквозь темную стену за ним, и дальше, дальше, сквозь мир нескончаемого дождя.
— Прощай, — произнес голос. — Теперь уже все равно. Зачем разбивать сердце, никогда не бившееся от любви? Нам это неведомо, милая девочка; свисают шпалеры: так далеко, так далеко от нас, моя смуглая дочь. И нет — не ту длинную полку, вовсе не полку — труд всей жизни, вот что пожрал огонь. Теперь все равно. Прощай… прощай…
Граф взошел по последним ступеням. Глаза его еще округлились.
— И все-таки, они примут меня. В доме их холодно, но они меня примут. И может статься, стены их башни сложены из любви; каждый кремень ее — прохладная голубая строфа наслаждения, каждое оперенье — ужасное, все перья их — черные и льняные, каждый коготь — великолепный!
Слова, которые он шептал, наполняла бесконечная грусть:
— Кровь, кровь, и кровь, и кровь, для тебя, неслышный, все, все для тебя, вот и я иду к тебе с наломанными ветвями. Она не была моей. Волосы ее красны, точно папоротник. И мыши, мыши: башни осыпаются, пламя лезет по стенам. Нет лазуна проворней огня; но все уже кончено. Прощай… Прощай. Теперь все равно, навеки — жар, жар, льда навеки. О, изнуреннейший из любовников — ничто не вернется. Угомонись же. Тише, тише, и исполни волю свою. Луна навсегда; ты найдешь их при входе. Огромные крылья придут к тебе, огромные, тихие, тихие крылья… Прощай. Все равно. Все равно.
Граф уже достиг лестничной площадки, и господину Флэю на какой-то миг показалось, что он собирается пересечь коридор и войти через вращающуюся дверь в комнату напротив, но Граф повернул налево. Быть может, для Флэя было б и проще, и разумнее развернуться кругом и побежать к Паучьей Зале, поскольку лорд Сепулькгравий, плывя, как в замедленном сне, преграждал Свелтеру путь, но сама эта мысль внушила Флэю омерзение. Оставить спящего хозяина наедине с поваром, крадущимся за ним по пятам, это казалось Флэю ужасным, и потому невозможным, и он продолжил свое фантасмагорическое отступление.
Они прошли уже половину пути до Паучьей Залы, когда, к изумлению и Флэя, и Свелтера, Граф вновь резко поворотил влево, в узкое ответвление полночного камня. Он сразу же скрылся из виду, поскольку и дефиле это после нескольких первых шагов само свернуло налево, поглотив мерцание лампы. Исчезновение Графа было столь неожиданным и внезапным, что ни один из противников не успел подобраться, проскочить оставленную им пустоту и наброситься на врага. Они находились сейчас в тех местах, где спали ночами Серые Скребуны — чуть дальше по коридору свисало с потолка поломанное подобие паникадила. На его-то свет и побежал, поворотясь, Флэй, а Свелтер, обманутая жажда крови которого дозрела до того, что и сам он едва ли не лопался, как хурма, решил, что тощего врага его поразила паника, и понесся за ним, с пугающим проворством плюхая плоскими ступнями об пол.
Меривший каменные плиты машистым шагом, господин Флэй, когда он ворвался в Паучью Залу, при всей его скорости, опережал Свелтера не более чем футов на девять. Ни тратя ни секунды, причудливо вскидывая длинные ноги, Флэй перепрыгнул три рухнувшие потолочные балки и, обернувшись в центре залы, увидел, что враг уже лезет в дверь, которую сам он только что проскочил. Состязание в ловкости, ставкой в котором была смерть, поглотило их до того, что ни один не удивился своей способности видеть врага в этой обычно темной зале. На удивление у них не было времени. Они не заметили даже, что буйство грозы улеглось, оставив после себя один лишь звук — тяжелый, траурный гул. Треть неба очистилась от туч, и в этой трети висела горбатая луна, очень близкая, очень белая. Ее-то свет и вливался в Паучью Залу через проем в противоположной двери стене. За проемом свет плясал, отблескивая, на шипящей воде, образовавшей огромное озеро на обнесенных стенами кровлях. Дождь сек его серебристыми нитями, навстречу которым взлетали из воды ртутные брызги. Зала же выглядела рисунком в черных, сизовато-серых и серебристых тонах. Она давно уже пребывала в забвении. Обвалившиеся и наполовину обвалившиеся балки лежали и кренились в ней под всевозможными углами, а между ними, сплетаясь, свисая с потолков верхнего этажа (ибо большая часть промежуточных потолочных сводов обрушилась), растекаясь, натянутая или обвисшая, во всех направлениях, ныряя в черные тени, мерцая в полумраке, или сверкая — там, где на нее невозбранно рушился лунный свет, — ярко, как филигрань, как чешуя прокаженного, светилась заполнившая воздух паутина, свитая бесчисленными пауками.