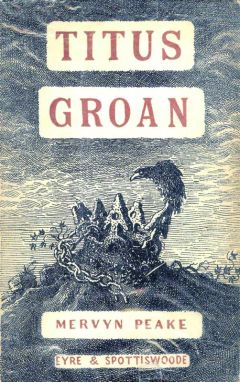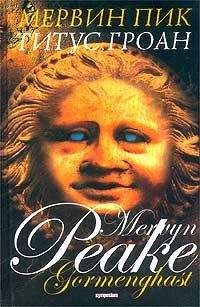Вот и этим вечером он захотел посмотреть, как чернеют на фоне заходящего солнца утесы.
Ему понадобился еще час, чтобы достигнуть северной пещеры, и, стягивая с себя рваную рубаху и садясь спиною к прохладной наружной стене, Флэй ощутил усталость. Зато поспел минута в минуту — солнечный диск балансировал, будто поставленное на ребро золотое блюдо, на вершине самого северного из главных утесов горы Горменгаст. Небо над ним, сквозистое, как алебастр, и пышное, как плоть человека, отливало цветом увядающей розы. Зрелая плоть. Зрелая, точно мягкая кожица спелого плода, ибо в слитном великолепии неба не ощущалось юной неопытности — бесплотный этот закат был итогом, потомком всех стародавних закатов, какие земля увидела со дня, в который над нею впервые мигнуло багровое око.
Пока взгляд Флэя сползал по отвесным бокам утеса к большому, похожему формой на сердце ущелью, в котором покоилась, утопая в море теней, вся растительность, какая прилепилась к утесу, он скорей ощутил, чем увидел, ибо мысли его еще блуждали во мраке, как воздух вокруг него ожил, и подняв голову, обнаружил, что потускневшая розовизна неба окрасила все вокруг, как будто всякая вещь дожидалась именно той густоты тонов, какой теперь обладало небо, чтобы смириться с изменением или заменой собственной расцветки. Словно по мановению волшебной палочки мага, мир зарумянился — весь, кроме солнца, которое, споря с цветами туманов и тел, заливаемых им охрой, само осталось золотым.
Флэй начал расшнуровывать башмаки. За ним зияла пустая пещера, у входа в которую роился миллион креветочного цвета пылинок, отчетливых на фоне внутренней тьмы. Вытягивая ногу из башмака, он заметил, что утес уже вгрызся в солнце, почти добравшись до его середины. Флэй откинул на камень костлявую голову, лицо его осветилось, щетина, предвестие первой его бороды, заблестела и каждый ее волосок обратился в медную проволочку; Флэй следил, как вершина утеса всползает вверх, будто головка стрелы, как черный зубец ее раздается, вздымаясь, вширь.
При всей неумолимости этого хода куда более роковым было в тот солнечный вечер продвиженье другой фигурки, бесконечно меньшей в сравнении с сумраком великой горы, чем зачарованно завершающий свой круг роскошный солнечный диск.
Вся ширь земли, захлебываясь, рыдала в ее микроскопическом космосе. В нем садилось солнце и гасли краски. В нем падали смертные росы и обитавшие в груди ее дикие птицы взлетали к горлу и парили, без песен, крылом к крылу, смятенные, страстно привязанные к этому краю — краю, в котором приходит конец всем вещам.
Для Флэя ее появление разрушило безмолвие одиночества, чувства его смешались, каждое вторглось в пределы другого, ибо приметив движение существа размером с буковку «я», силуэта, ползущего по гигантскому желтому блюду, он ощутил себя вырванным из владевшего им сна. Даже на таком расстоянии он мог уверенно сказать, что перед ним человек. Понять, что это Кида, было не в его власти. Флэй ощутил себя свидетелем, очевидцем. Он вглядывался, и не мог отвести взгляда. Мгновения таяли, перетекая одно в другое, Флэй встал на колени. Оцепенение овладевало им. Крошечная, бесконечно далекая фигурка пересекала солнечный диск, приближаясь к черному краю утеса. Бессильный, Флэй наблюдал за нею, выпятив челюсть, холодный пот проступал на его костлявом лбу, ибо он знал, что перед ним Горе, что он видит нечто куда более личное и потаенное, чем был вправе увидеть. Нет, все же внеличное. Маленькая фигурка была воплощением всей человеческой боли, совершающей, пронизывая скользящее время, последние свои шаги.
Она подвигалась медленно, восхождение утомило ее да к тому же совсем недавно она породила на свет дитя, девочку с белой, как алебастр, кожей, пугавшей всякого, кто ее видел. Кида словно бы удалилась от мира в возвышенное, величавое одиночество розово-красной дымки высотного воздуха. Она остановилась на краю нагого обрыва, под которым сгущались тени и, постояв немного, повернула голову к плавающим в теплом мареве Горменгасту и Жилищам. И тот, и другие уже лишились реальности. Такие далекие, такие чужие. Уже не ее, с ними покончено. И все же она повернула к ним голову, ради ребенка.
Повернутая голова ее казалась плоской, лишенной размерности. С шеи свисали на ремешке, покоясь на грудях Киды, гордые фигурки, изваянные ее любовниками. Лицо ее осенила на обрыве лет опасная красота, подобная красоте утеса, на краю которого стояла она. Последняя опора, как мало здесь места. Полоска тающего цвета футов в семь длиной. Она лежала за спиной Киды, похожая на ковер, сплетенный из темных роз. Эти розы были камнями. Одинокий росток папоротника выбивался из них. Какая тут высота?… Тысяча футов? Тогда голова ее должна сейчас плыть меж далеких звезд. До чего же все далеко! Слишком далеко, чтобы Флэй смог увидеть, как повернулась ее голова — искорка жизни на лике заходящего солнца.
Стоявший на коленях Флэй понял, очевидцем чего он стал.
Мир лежал вокруг нее и под нею. Все угасало. Над восточным краем земли внезапно взошла, остужая розы, луна, убывавшая в ней с каждой минутой, и Кида поняла, что готова.
Она отвела волосы с глаз и со скул. Длинные, они повисли недвижно, как тени в колодце, как полночь, струящаяся по ее распрямленной спине. Смуглые руки Киды прижимали к груди изваяния, и когда на лице ее забрезжила, приподымая брови, улыбка, она шагнула в обнявший ее темнеющий воздух и полетела, сказочно освещенная луною и солнцем сразу.
Необъяснимое исчезновение лорда Сепулькгравия, а заодно с ним и Свелтера, разумеется, стало тяжким испытанием для Горменгаста — для самого склада его мышления, — испытанием, коснувшимся всех, от поварят последнего до супруги первого. Загадочность пропажи была полной, ибо о местонахождении Флэя также никто ничего не знал.
Всеобщему недоумению не видно было конца. Длинные коридоры наполнились шелестом слухов. Невозможно же, чтобы люди, настолько несхожие, взяли да и сбежали вместе. Сбежали? Куда сбежали? Бегать-то им и некуда. Столь же невозможно было помыслить, что они сбежали поодиночке — и по той же самой причине.
Конечно, первым делом Графиня, Доктор и Фуксия вспомнили о болезни Графа, вследствие чего и были предприняты доскональные поиски, которые возглавил Стирпайк. Поиски эти не обнаружили и отдаленных признаков каких-либо следов, что, по мнению Стирпайка, было лишь хорошо, ибо позволило ему влезать в покои и залы, которые его давно подмывало исследовать на предмет собственного вселения.
Только на девятый день поисков Баркентин решил прекратить их, благо они пришлись не по нутру не только ему, но и всем до последнего обитателям каменного леса — этого террасного лабиринта изломанных троп.