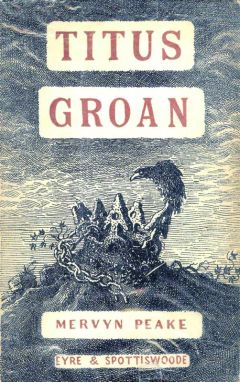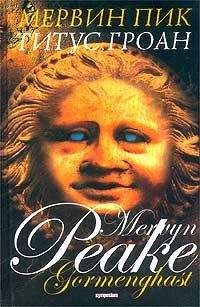Баркентин и Стирпайк
Необъяснимое исчезновение лорда Сепулькгравия, а заодно с ним и Свелтера, разумеется, стало тяжким испытанием для Горменгаста — для самого склада его мышления, — испытанием, коснувшимся всех, от поварят последнего до супруги первого. Загадочность пропажи была полной, ибо о местонахождении Флэя также никто ничего не знал.
Всеобщему недоумению не видно было конца. Длинные коридоры наполнились шелестом слухов. Невозможно же, чтобы люди, настолько несхожие, взяли да и сбежали вместе. Сбежали? Куда сбежали? Бегать-то им и некуда. Столь же невозможно было помыслить, что они сбежали поодиночке — и по той же самой причине.
Конечно, первым делом Графиня, Доктор и Фуксия вспомнили о болезни Графа, вследствие чего и были предприняты доскональные поиски, которые возглавил Стирпайк. Поиски эти не обнаружили и отдаленных признаков каких-либо следов, что, по мнению Стирпайка, было лишь хорошо, ибо позволило ему влезать в покои и залы, которые его давно подмывало исследовать на предмет собственного вселения.
Только на девятый день поисков Баркентин решил прекратить их, благо они пришлись не по нутру не только ему, но и всем до последнего обитателям каменного леса — этого террасного лабиринта изломанных троп.
Мысль о том, что глава Дома может хотя бы на час устраниться от исполненья своих обязанностей, казалась достаточно святотатственной — а уж возможность полного его исчезновения и вовсе лежала за пределами, до которых простирались возможности словесного описания. За пределами гнева. Что бы с ним ни случилось, какая бы причина ни подтолкнула его к дезертирству, двух мнений на этот счет быть не могло — его светлость стал ренегатом в глазах не одного только Баркентина, но и (представлявших себе это смутно, но воспринимавших крайне болезненно) всех остальных.
Необходимость поисков была очевидной, однако все понимали и то, что обнаружение Графа создаст ситуацию столь тягостную, столь безумно неловкую, что в сравнении с ней уходу его было бы лучше так и остаться загадкой.
Ужас, с которым Баркентин поначалу воспринял новость о случившемся, теперь, на исходе девятого дня, сменился каменным, твердолобым отвращением ко всему, связанному с личностью его прежнего господина, благоговение старика перед Графом, как перед прямым наследником рода, полностью утратило что-либо общее с чувствами, кои он ныне питал к этому человеку. Сепулькгравий повел себя, как предатель. И никаких извинений тут быть не может. Болезнь? При чем тут болезнь? Даже больной, он оставался Гроаном.
В первые дни после получения им рокового известия Баркентин обратился в законченное чудовище, рыскавшее по замку, костеря на чем свет стоит всех встречных и поперечных, влезавшее в одну комнату за другой и грозившее костылем всякому, кто казался ему мешкающим.
Единственным утешением служило старику то обстоятельство, что отныне Титус перейдет под полные его контроль и покровительство. Баркентин раз за разом повторял себе это высохшими губами.
Меры, принятые Стирпайком для организации поисков, в ходе которых Баркентин узнал юношу много лучше, чем прежде, произвели на старика благоприятное впечатление. Строго говоря, оба они друг друга терпеть не могли, и тем не менее Баркентин стал проникаться ревнивым уважением к методичности и расторопности, с коими действовал молодой человек. Стирпайк скоро заметил самые еще слабые признаки оного и не преминул на нем сыграть. В день, когда поиски были, по распоряжению Баркентина, прекращены, юноша получил приказ явиться в Грамотную Залу. В ней он нашел оборванного Баркентина, восседавшего в кресле с высоким прислоном за каменным столом, заваленным множеством грамот и книг. Казалось, будто это узластая борода старика уселась на камень промежду его морщинистых дланей. Подбородок Баркентин задрал, выставив напоказ шею, словно бы изготовленную из двух кусков каната, нескольких шнурков да множества обрезков простой бечевки. Лицо Баркентина, как и лицо отца его, покрывало почти немыслимое количество морщин, так что глаза и рот старика, когда они закрывались, совсем пропадали из виду. Костыль стоял, прислоненный к каменному столу.
— Вызывали? — осведомился от двери Стирпайк.
Баркентин поднял на него пылающий, гневный взгляд и опустил книзу исчерканные морщинками уголки рта.
— Поди сюда, ты, — скрипуче приказал он.
Стирпайк быстро, но как бы косвенно, по странному его обыкновению, приблизился к столу. Ковра на полу не было, шаги Стирпайка гулко разносились по комнате.
Подойдя и остановившись перед стариком, он склонил голову набок.
— Поискам конец, — сказал Баркентин. — отзывай своих псов. Слышишь?
Стирпайк поклонился.
— Хватит глупостей! — пролаял старческий голос. — Нагляделись, довольно, чтоб я пропал!
И он принялся скрестись, просунув руку в жуткого вида дыру на своем багровом тряпье. Во все продолжение этой операции собеседники молчали. Стирпайк начал было переносить вес тела с одной ноги на другую.
— Куда это ты собрался? Стой на месте, жалкая крыса, понял? Клянусь требухой матери, которую я зарыл кверху задницей, держись ровнее, мальчишка, держись ровнее!
В волосках, окружавших рот Баркентина, сквозила слюна, пальцы его постукивали по уже выложенному на стол костылю.
Стирпайк поджал губы. Он следил за каждым движением старца, надеясь сыскать брешь в его доспехах.
Сидя за столом, Баркентин еще мог сойти за нормально сложенного человека, но даже Стирпайк испытал потрясение, увидев, как он сполз с кресла, поднял руку за костылем и стал, постукивая деревяшкой и поскрипывая кожей, огибать стол, как раз до поверхности которого и доставал его подбородок.
Стирпайк, будучи и сам юношей далеко не рослым для его семнадцати, понял, что если Распорядитель Ритуала придвинется еще на несколько вершков, то упрется ему колючим носом в живот на ладонь ниже пупка, этого центра, от которого пляшет глаз рисовальщика, реликта, потаенные потенции коего оценил, быть может, один лишь покойник Свелтер, находивший в нем, когда повару приспевала охота позавтракать в постели вареными яйцами, невалкую солонку.
Стирпайк поймал себя на том, что уставился, сколь это ни неуместно, сверху вниз на словно нарочно подставленный взгляду клок наморщенной кожи. Два глаза горели на его измятой гофрированной поверхности. По контрасту с сухой, песчаного цвета кожей, они казались карикатурно жидкими — смотреть в них было все равно, что подвергаться испытанию водой: любая невинность в них утопала. Глаза выплескивались за сухие ободы двух зараженных колодцев. Ресницы отсутствовали.