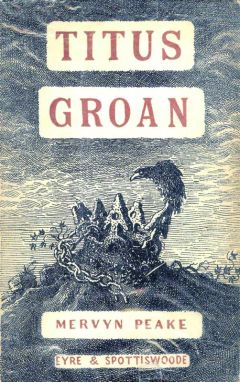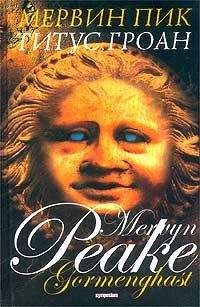— Семнадцать, — повторил он с таким задумчивым недоверием, что удивил даже Стирпайка, ни разу еще не слыхавшего, как это старое горло издает звуки, окрашенные такой интонацией. — Черт побери мои морщины, повтори-ка еще разок, цыпленок.
— Семнадцать, — повторил Стирпайк.
Баркентин впал в подобие транса, колодцы глаз его замутились, потускнели, будто затянутые крохотными саргассами тусклого, меловато-синего цвета — катарактовой пеленой — похоже, он старался припомнить блаженные дни собственной юности. Пору рождения мира, источник, забивший на окраине Времени.
Внезапно он очнулся и выругался; и, словно пытаясь стряхнуть с себя некую опасную гадость, задергал лопатками, сердито прыгая вокруг костыля, наконечник которого взвизгивал, вращаясь на голом полу.
— Так вот, мальчишка, — сказал он, когда, наконец, остановился, — для тебя есть работа. Нужно построить плот, чтоб я сдох, плот из веток каштана, и никаких иных. И еще процессия. Верховая, на расседланных конях. Мясо на вертеле в Каменной Зале. Ах, чтоб меня в аду ломтями нарезали, мальчик! Отзывай своих псов.
— Да, господин, — сказал Стирпайк. — Должен ли я приказать им вернуться по домам?
— Чего? — пробурчал Баркентин. — О чем ты?
— Я спрашиваю, должен ли я приказать им вернуться по домам? — повторил Стирпайк. Ответом ему был утвердительный всхрап, исторгнутой бечевочным горлом.
Но стоило Стирпайку повернуться к двери:
— Куда, недоумок? Я еще не закончил!
И следом:
— Кто твой хозяин?
Стирпайк поразмыслил немного.
— Прямого хозяина нет у меня, — сказал он. — Я стараюсь приносить посильную пользу — то здесь, то там.
— Да неужто, юнец? «То здесь, то там», вот оно как? Я тебя насквозь вижу. Насквозь, сосунок, все твои кости и каверзы. Меня не надуешь, клянусь камнями! Ты шустрый крысенок, но больше никаких «то здесь, то там» для тебя не будет. Только «здесь», ты понял? — старик ударил костылем в пол. — Здесь, — добавил он с еще большим напором, — рядом со мной. Глядишь, и из тебя выйдет толк. Может, даже немалый.
И старик почесался, воткнув руку в дыру под мышкой.
— А какое жалованье вы мне положите? — спросил, засовывая руки в карманы, Стирпайк.
— Прокорм, наглый выблядок! прокорм! Какого тебе еще рожна? Вот же адское отродье! Крыша над головой, еда и честь изучения Ритуала. Прокорм, чтоб ты сдох, и тайны Гроанов. На кой ты мне сдался, как не для обучения тяжкому Ремеслу? Да пропади я пропадом — у меня нет сына. Ну, готов?
— Более чем когда бы то ни было, — ответил юноша с высокими плечьми.
Неся с собой дуновения свежести, белесый воздух прерывистыми толчками проскальзывал сквозь обступившие озеро высокие деревья. Казалось, дуновения эти никакого отношения не имеют к сгущенной жаре застойного времени года, столь явственно отличались они от всей остальной бесцветной массы стерильного воздуха. Как могут в такой духоте вдруг открыться проходы столь водянисто текучие, столь чужеродные? Каждый порыв воздуха вспарывал плотную ткань этой влажной и душной поры. И едва он замирал, ткань смыкалась, точно жаркое одеяло, но смыкалась лишь для того, чтобы ее снова пропорола синяя игла, — лишь для того, чтобы снова стянуться — лишь для того, чтобы быть пропоротой вновь.
Немощь отступала, немощь и затхлость летнего дня. Обожженные листья стучали один о другой, тонко поскрипывали, кивая хохлатыми венчиками, сорные травы, и озеро пестрило точечной рябью, как будто исколотое миллионом булавок, скольженьем гусиной кожи, мгновенно крадущей и сразу опять отдающей пляшущие бриллианты.
За деревьями лесистого южного косогора, круто спадавшего к воде, за редко плетеной колыбелью его ветвей различалась часть замка Горменгаст — обоженный солнцем до волдырей, бледный в темной раме листвы далекий фасад.
Птица неслась над водой, легко задевая ее грудным оперением, оставляя на глади озера шлейф светляков. Брызги сорвались с нее, когда она взлетела в горячий воздух, перемахнув береговые деревья — одна из капель на миг пристала к листу падуба. И в этот миг капля обрела черты титанические. Она, словно почка, вобрала в себя необъятное лето. Озеро, небо, листва — все отразилось в ней. Южный откос рассекал ее, струилась, колеблясь, жара. Каждая ветка, каждый листок — и полет синих игл, и всякое мелкое мельтешение, все, дрожа, повисло в ней. Округлая, она стекала вниз, растягиваясь и вновь набухая, и когда она удлинилась, прежде чем сорваться с края падубного листа, в продолговатой этой жемчужине дрогнули кривые отражения высоких стен, осыпающейся, рябящей безымянными окнами каменной кладки за ними, плюща, лежащего, подобно черной руке, на фасаде Южного крыла.
И даже пока она падала, в подбрюшье ее вздрагивал дальний плющ и микроскопическое лицо, глядящее в лето из схожего с шипом боярышника окна.
В озере, когда дуновения покрывали его зыбью, застывавшей в курчавом покое, волновались, складываясь гармошкой, отраженья деревьев. Впрочем, одного его маленького участка порывы не достигали — то был обнесенный заросшей кустарником искрошенной каменной изгородью мелкий ручей — парок мрел над ним и несчетные головастики сновали в его воде.
Источник этот бил из земли на противоположном косогору и замку берегу, с которого и задувал иногда ветерок. Он пробивался к солнцу на северном краю восточной оконечности озера. Гладь озера простиралась с запада на восток (от откоса к ручью), северный и южный берега его лежали относительно близко друг к другу, южный по большей части щетинился зубцами построенных в сумрачные шеренги хвойных древес, несколько кедров и сосен росли там прямо из воды. Северный берег усеивал сероватый тонкий песочек, иссякавший в зарослях бузины и березовых кущах.
На песке, у самой воды — примерно в середине северного берега — был разостлан большой ржавого цвета ковер, в самом центре которого сидела нянюшка Шлакк. Рядом с нею лежала на спине Фуксия, повернув голову и прикрыв предплечьем глаза, чтобы защитить их от солнца. По горячему тусклому песку, переваливаясь, прохаживался взад-вперед облаченный в желтую рубаху Титус. Волосы его отросли, потемнели. Совершенно прямые, они искупали отсутствие локонов тяжестью и густотой. Темно-карие, волосы эти уже доходили ему до плеч, плотной челкой спадая на лоб.
Резко прервав (как если бы в голову ему пришла какая-то очень важная мысль) шаткую, перевалистую пробежку, он повернулся к госпоже Шлакк. Брови над удивительными фиалковыми глазами насупились, на круглом красном лице проступило выражение, представляющее странную смесь жалкости, нелепости и глубокомыслия. Мелькнул даже намек на напыщенность — однако тут Титус покачнулся и, потеряв равновесие, резко плюхнулся задом в песок — а вслед за падением и некое подобие величавости. Впрочем, когда он вдруг пополз — бочком, отталкиваясь одной ногой, загребая руками, по запястья тонувшими в песке (вторая нога не предпринимала ни малейших усилий поучаствовать в продвижении, ей было достаточно волочиться за энергичной товаркой, оставаясь чуть ниже нее), — облик Титуса утратил всякую флегматичность, наполнясь порывистостью, но и тени улыбки не обозначилось на его губах.