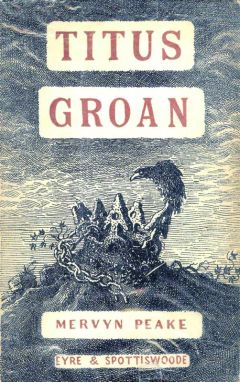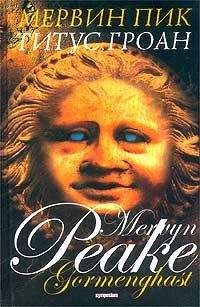Добравшись до ржавого ковра, он уселся в нескольких футах от госпожи Шлакк и затих, изучая башмак старушки: локоть его уперся в колено, подбородок погрузился в ладонь — поза поразительно взрослая, неподходящая ребенку, которому не исполнилось и восемнадцати месяцев.
— Ох, бедное мое сердце! Как же он смотрит, — прозвучал тоненький голосок госпожи Шлакк. — Как будто я не любила его, как будто из сил не выбивалась, чтобы его порадовать. Ведь до мозга костей умаялась ради его маленькой светлости, разве нет? День за днем, ночь за ночью, то одно, то другое, все маешься, маешься, вот уж, кажется, порадуется он наконец твоей любви, а он ведет себя так, будто он умнее своей старой няньки, которая все-все знает о детских репризах (Нянюшка, надо полагать, имела в виду «капризы»), и вся-то моя награда это непослушание его сестрицы — ох, слабое мое сердце, непослушание да хандра.
Фуксия приподнялась, опираясь на локоть и вглядываясь в бор на другом берегу. Глаза ее не были нынче красны от слез: в последнее время она плакала так часто, что несколько истощила свои солевые запасы. Это были глаза, в которых сонмище слез ожесточенно билось, не желая никуда уходить, и одержало победу.
— Что ты сказала?
— Вот именно! Вот именно! — госпожа Шлакк осерчала. — Никогда не слушает! Наверное, слишком умная стала, чтобы слушать старуху, которой и жить-то осталось всего ничего.
— Я не расслышала, — сказала Фуксия.
— А ты никогда и не пыталась, — огрызнулась Нянюшка. — В том-то и дело — никогда не пыталась. Тебе что есть я, что меня нету, все едино.
Фуксия уже немного устала от сварливых, слезливых укоров старенькой няньки. Она перевела взгляд с сосен на брата, начавшего тем временем возиться с пряжкой на одной из ее туфель.
— Хорошо хоть ветерок приятный задул, — сказала она.
Нянька, забывшая, что она сию минуту корила Фуксию, испуганным рывочком повернула к девочке морщинистое личико.
— Что ты, баловница моя дорогая? — спросила она.
И тут же вспомнив, что «баловница» по какой-то причине, которую старушка успела запамятовать, впала у нее в немилость, сморщила личико в смешной, тщедушной гримаске надменности, словно бы говоря: «Я, может, и называю тебя „дорогой баловницей“, но это не значит, что мы с тобой снова разговариваем».
Фуксия с хмурой печалью взглянула на нее.
— Я говорю — ветерок приятный, — повторила она.
Госпоже Шлакк никогда не удавалось подолгу выдерживать позу показного достоинства, вот и теперь она, как бы ставя точку, попыталась шлепнуть Фуксию, но не рассчитала расстояние и завалилась набок. Фуксия, потянувшись над ковром и словно поправляя сбившееся набок украшение, усадила карлицу на прежнее место и нарочно оставила левую руку поближе к ней, ибо хорошо знала свою старую нянюшку. И разумеется, стоило только госпоже Шлакк прийти в себя и разгладить на коленях юбку, и поправить шляпку со стеклянными виноградинами, как она тут же слабенько хлопнула Фуксию по руке.
— Что ты там говорила о ветерке, дорогая? Наверное, как всегда, ничего интересного.
— Я сказала, что он приятный, — ответила Фуксия.
— Да, приятный, — поразмыслив, согласилась Нянюшка. — Приятный, единственная моя, да только моложе-то он меня не сделает. Так, разве, обдует с краешку, чтобы коже полегче стало.
— Ну, по-моему, все же лучше, чем ничего, — сказала Фуксия.
— Да ведь этого мало, спорщица ты этакая. Мало, когда человеку вон сколько всего переделать надо. И за что твоя здоровенная мамочка так на меня взъелась? Как будто я что-то могу поделать с пропажей твоего бедного отца да с беспорядком на кухне; как будто я что-то могу поделать!
При упоминании об отце Фуксия закрыла глаза.
Она и сама искала его — искала долго. За последние несколько недель Фуксия сильно повзрослела — теперь сердце ее раздирали чувства, которых она прежде не знала. Страх пред сверхъестественным, нездешним — ибо ей пришлось столкнуться с ним лицом к лицу — страх перед безумием и насилием, смутно ею подозреваемым. Он сделал ее взрослее, молчаливее, опасливее. Фуксия узнала страдания — страдания одиночества, заброшенности и утраты той пусть и невеликой любви, какая выпала ей на долю. Она начала бороться с собой и окрепла в этой борьбе, в ней зародилось чувство невнятной гордости, пробудилось сознание своего наследия. Исчезновение отца окончательно выковало еще одно звено незапамятной цепи. Фуксия оплакивала утрату, поселившую в груди ее тяжкую боль, но помимо утраты она ощущала за своею спиной — ощущала впервые — горный кряж Гроанов, ощущала, что она не свободна больше, что она не просто Фуксия, но представительница Рода. Все это клубилось в ее голове, словно облако. Зловещее, величавое, лишенное отчетливых очертаний. Что-то, чего она не понимала. Что-то, к чему она испытывала отвращение — столь невразумителен казался ей его голос. Перемена свершилась в ней вдруг — она не была уже девочкой, ни в чем, кроме привычных навыков речей и поступков. Разум и сердце ее повзрослели, и все, некогда такое простое, заволоклось мглою, все перепуталось.
Нянюшка опять повторила, уставя слабые глазки за озеро:
— Как будто я что-то могу поделать со всем этим беспорядком да с негодными людьми, которые делают неположенное. Ох, бедное мое сердце! Как будто это я во всем виновата.
— Никто и не говорит, что ты виновата, — сказала Фуксия. — Сама выдумываешь за людей, что они думают. А все это никакого к тебе отношения не имеет.
— Не имеет! А вот и имеет — ох, проказница ты моя милая, как же не имеет, когда имеет? — тут взгляд ее снова сосредоточился (насколько был на это способен). — Что не имеет, дорогая?
— Неважно, — сказала Фуксия. — Посмотри-ка на Титуса.
Нянюшка, ответа Фуксии ничуть не одобрившая, обернулась и увидела, что малыш в желтой рубахе уже поднялся и важно вышагивает по горячему коричневатому песку прочь от ковра, сложив перед собою ладони.
— Ты-то хоть нас не покидай! — вскрикнула нянюшка Шлакк. — Без противного, жирного господина Свелтера мы уж как-нибудь обойдемся, но куда ж мы без нашей маленькой светлости? Без господина Флэя мы обойтись сумеем и…
Фуксия вскочила на колени.
— Не сумеем! Не сумеем! Не говори так… так ужасно! Не говори об этом — никогда! Милый Флэй и… нет, ты не понимаешь, бессмысленно. Ох, ну что же с ними случилось? — она опустилась на ковер, нижняя губа ее дрожала, она понимала, что не должна дозволять бездумной болтовне старой няньки бередить ее открытую рану.
Госпожа Шлакк удивленно уставилась на нее, но тут обеих заставил вздрогнуть чей-то голос. Оборотясь, они увидели под деревьями двух высоких, направляющихся в их сторону людей — мужчину и… возможно ли?… да, так и есть, женщину. С парасолем в руках. Не то, чтобы в этой второй фигуре, обозначилось бы нечто мужественное, даже если б она оставила дома парасоль. Отнюдь. Раскачивающееся продвижение ее было более чем женственным. Длинная шея походила — довольно бестактно — на шею брата, походило бы и лицо, если б изрядная часть его не была милосердно скрыта черными очками: и все же главное несходство их обозначалось в области таза. Доктор (ибо это был Прюнскваллор) мог похвастаться парой бедер не в большей мере, чем поставленный на хвост угорь, между тем как обвитая белым шелком Ирма сделала, кажется, все, чтобы в самом невыгодном свете (талия ее была до смешного затянута) выставить напоказ бедра, на костяных полках которых можно было б расставить безделушки в количествах, достаточных для того, чтобы битком набить чулан клептомана.