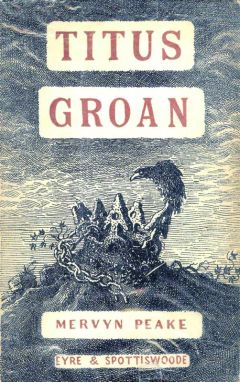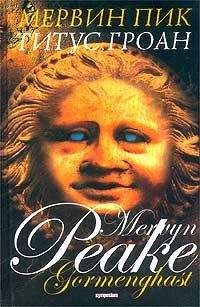— Слушайте, — сказала она. — Мы здесь одни. Дела принимают дурной оборот. Что-то разладилось. Затевается нечто злое. Я в этом уверена.
Глаза ее сузились.
— Но пусть попробуют. Мы подождем. Мы торопиться не станем. Пусть поднимут на нас свою мерзкую руку, и тогда, клянусь Погибелью, мы свернем им шеи. Через четыре дня Вографление — а там я заберу его к себе, мальчика, ребенка — Титуса Семьдесят Седьмого.
Графиня встала.
— И Бог да простит мою душу, ибо я буду в этом нуждаться! — пророкотала она, и птицы забили крыльями, переступая, чтобы сохранить равновесие. — Бог да простит ее, когда я найду негодяя! Не знаю, как там насчет отпущенья грехов, но удовлетворение я получу!
Она извлекла из ближайшей корзинки несколько хлебных крошек и вложила их себе в губы. Одна из пичуг, заслышав дробное цоканье ее языка, принялась склевывать крошки, но глаза Графини все еще были полуприкрыты и остававшиеся на виду малые доли райков поблескивали жестко, как мокрый кремень.
— Удовлетворение, — хрипло повторила она, словно бы вымурлыкивая слоги. — Все сходится к Титусу. Гора и камень, Род и Обычай. Пусть попробуют тронуть его. За каждый его волос я остановлю чье-то сердце. И если, когда все уляжется, милость Господня почиет на мне — хорошо; а если нет, то и пусть.
Нечто, облаченное в белый саван, направлялось к дверям, ведшим в покои близняшек. Замок спал. Вселенское безмолвие. Нечто было нечеловечески высоким и, казалось, не имело рук.
Тетушки, обнявшись, сидели в своей комнате у холодной каминной решетки. Они так долго ждали, когда повернется ручка двери. Вот она и начала поворачиваться. Двойняшки не отрывали от нее глаз. Они уже больше часа глядели на нее — через скудно освещенную комнату, под тиканье бронзовых часов. И внезапно в постепенно ширящейся щели объявилось, зацепив притолоку, Нечто — осклабленная, с застывшими чертами башка, голый череп.
Кричать они не могли. Двойняшки не могли кричать. У обеих перехватило горло, руки и ноги заледенели. Четверка их выпученных глаз являла собой жуткое зрелище; сестры стояли, парализованные, а тем временем из-под ухмыляющейся мертвой головы послышался вой:
— Ужас! Ужас! Ужас! Чистый, голый, кровавый!
Следом девятифутовый саван вплыл в комнату.
Для черепа старика Саурдуста нашлось, наконец, применение. Стирпайк насадил его на кончик трости с тайным клинком, осыпал фосфором и задрапировал простыней, свисающей по сторонам от него — сооружение это удерживалось на трости гвоздиком, вбитым черепу в маковку. Юноша держал его футах в трех над головой, проделав в простыне разрез на уровне собственных глаз. Длинные скульптурные складки ткани ниспадали до самого пола.
Двойняшки были уже белей простыни. Рты их раззявились, но вопли, лишенные возможности вырваться наружу естественным путем, раздирали сестер изнутри. Сестры стыли в ледяном ужасе, волосы их, сами собой распутавшись и распустившись, встали стойком, подобно пампасной траве, восстающей в меркнущем свете, когда внезапный порыв ветра сотрясает ее, предвещая приближение бури. Они не могли даже покрепче прижаться друг к дружке, поскольку члены их налились холодной каменной тяжестью. Это был конец. Нечто, задевая потолок головой, бесшумно приближалось к ним, как единое целое. При всем его нечеловеческом росте, оно как бы и вовсе роста не имело. То был призрак не просто высокий — неизмеримый; Смерть, надвигающаяся подобно природной стихии.
Стирпайк наконец понял, что если он не примет решительных мер, сестры рано или поздно выболтают тайну Пожара — редкая сеть извилин, покрывающая их пустые мозги, не сможет ее удержать. Сколь ни сильна его власть над ними, никакой уверенности в том, что безропотность, сама собой одолевавшая сестер, когда он оказывался рядом, будет сохраняться и в присутствии других людей, питать невозможно. Как понимал теперь Стирпайк, уже с первой минуты поджога все его существование зависело от их языков — оставалось лишь радоваться, что его до сих пор не уличили, — и он совершенно напрасно надеялся, что сестрицы при всей их пустоголовости смогут, однако ж, понять, какая опасность грозит им, если на них падет хотя бы тень подозрения. Он понял, наконец, что только страх и обман способны запечатать их праздные уста. И потому он пролежал несколько ночных часов без сна, обдумывая нынешний маленький маскарад. Фосфорный порошок, состряпанный им в аптеке Прюнскваллора заодно с ядами и до сей поры не пригодившийся, трость с клинком, так ни разу и не обнаженным, если не считать тех минут, когда он, оставаясь один, наводил лоск на тонкую сталь, и простыня. Вот и все ингредиенты, потребные для создания ходячей смерти.
И ныне она явилась в гостиную сестер. Стирпайк отлично видел их сквозь прорезь в простыне. Надо поторопиться, они того и гляди забьются в истерике, утратив способность слышать и уж тем более понимать сказанное. И Стирпайк взвыл голосом тонким, потусторонним и жутким.
— Я — Смерть! — завыл он. — Во мне сокрыты все, кто покинул сей мир. Я — смерть Двойняшек! Воззрите! Вглядитесь в лицо мое. Голое. Костяное. Это Месть! Слушайте! Я — та, что удушает.
Стирпайк еще на шаг приблизился к сестрам. Рты их так и остались разинутыми, горла раздирал рвущийся наружу крик.
— Я пришла, чтобы предостеречь вас! Предостеречь! Шеи ваши длинны и белы, о, как приятно мне будет стискивать их. Мои костлявые руки выдавят из вас дыхание до самой последней капли… Я — предостережение! Внемлите!
Собственно говоря, только внимать они и могли. Ни на что другое сил у сестер не осталось.
— Я Смерть — и я обращаюсь к вам, Поджигательницы! Той ночью вы запалили ярое пламя. Вы выжгли сердце вашего брата! О, ужас!
Стирпайк перевел дыхание. Глаза сестриц, похоже, держались на лицах лишь благодаря подпиравшим их скулам. Придется выбирать слова подоходчивей.
— Но есть преступление и более страшное. Болтливость. Преступление упоминания. Упоминания. У тех, кто совершает его, я отнимаю жизнь в темной комнате. Всякий раз, как вы откроете рты, я буду следить за вами. Следить. Следить моими огромными костяными глазами. Я буду слушать. Слушать бесплотными ушами, и длинные пальцы мои будут зудеть… зудеть. Даже между собою — ни слова! Ни слова о преступлении вашем. О, ужас! ни слова о яром пожаре.
— Хладный гроб призывает меня, но отвечу ли я на зов его? О нет! ибо я навсегда останусь при вас. Слушая, слушая, с зудом в пальцах. Вы меня не увидите… но я буду здесь… и там… куда бы вы ни направились… навек рядом с вами. Ни слова о Пожаре… или Стирпайке… Пожар — или Стирпайк, ваш защитник, спасающий ваши длинные шеи… Ваши длинные, длинные шеи!