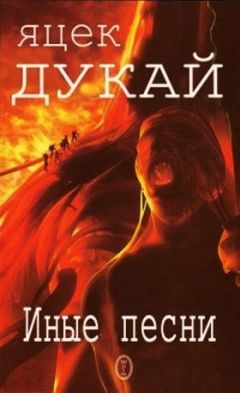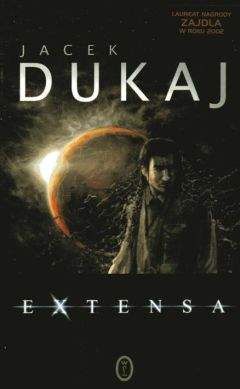Ознакомительная версия.
Быть может Яхве еще позволит нам когда-нибудь встретиться. Быть может, я выживу. Сейчас же я сбегаю в огонь божественных антосов; вполне возможно, что тогда ты с тобой не познакомишься, мы не познаем друг друга. Были такие моменты, даже целые дни, когда я любила тебя так, что болело сердце, и я теряла дыхание, на мне горела кожа. Это значит — тебе известно, кого я любила. Ведь знаешь, правда? Рассчитываю на то, что помнишь.
ε. Мария Лятек π. БербелекОох, писать-то она умела. Иероним трижды перечитал письмо. Наверняка, она работала над ним целый день, всегда любила все доводить до совершенства. Во всяком случае, тогда, когда ее знал. Двадцать лет? Да, это уже двадцать лет. Собственно, следовало ожидать, что Мария так закончит: убегая темной ночью от правосудия, жертва собственной интриги, до конца в собственных глазах невиновная, со всей прелестью и лиричным текстом на устах отбрасывая из собственной жизни лишнее бремя, уверенная будто мир ей поможет. Из всего, что она могла о нем теперь знать, Иероним мог быть каким-то какоморфом[2]-психопатом, разносящим по людям гной Чернокнижника. И, тем не менее, она выслала к нему детей.
Пан Бербелек поднялся на этаж. Их голоса услыхал уже в коридоре. Алитея смеялась. Он остановился за дверью гостевой комнаты. Она смеялась, а Абель что-то говорил на фоне, слишком тихо, чтобы понять, но, кажется, по-вистульски. На лестнице появилась Тереза; пан Бербелек отослал ее жестом. Та на него странно посмотрела. Подслушивал ли он собственных детей? Да, именно это он и делал. Ждал, пока не скажут чего-нибудь о нем: отец то, отец другое. Только нет, ничего. Немногочисленные слова, которые различал, касались города, Воденбург явно не соответствовал их представлениям о столице Неургии. Алитея уже не смеялась. Иероним верхом ладони поглаживал крашенное дерево двери. Нужно ли постучать? Он прижал палец к шейной артерии. Успокой дыхание, успокой сердце — собственно, чему тут беспокоиться? Раз, два, три, четыре.
Вошел. Дети были все еще в дорожной одежде; парень стоял возле окна, глядя на город под темным небом и в закатном солнце; девочка полулежала на кровати, перелистывая какую-то книжку. Они оглянулись на него, и только лишь в этом одновременном движении пан Бербелек заметил их семейную схожесть — одна кровь, одна морфа: эти глубоко посаженные очень черные глаза и высокие скулы, твердый подбородок…
Дети глядели безразлично, во взглядах лишь легкое любопытство.
— Иероним Бербелек, — представился он.
Те поняли не сразу.
— Это вы… это ты? — Абель подошел к нему. Ему еще не исполнилось пятнадцати лет, но уже был выше Иеронима. — Это вы. — Парень протянул руку. — Я — Абель.
— Так. — Пан Бербелек внутренне собрался, энергично схватил поданную ладонь, но рукопожатие сына оказалось сильнее. — Знаю.
После чего они попали во власть Молчания. Иероним хотел открыть рот, но форма была сильнее; ему было ясно, что Абель тоже бессильно дергается. Парень приглаживал волосы, поправлял манжету, потирал щеку. Пан Бербелек, во всяком случае, движения рук контролировал. Он оглянулся на Алитею. Та отложила книжку, но с кровати не встала, приглядываясь к ним двоим с серьезным выражением на лице.
Пан Бербелек отодвинул стул от секретера. Усевшись, он склонился вперед, опирая локти на колени и сплетая пальцы. Сейчас он находился на одном уровне с Алитеей. Тут до них дошло, что глядят себе прямо в глаза; тем более невозможно теперь было отвернуться, опустить взгляд. Девочка смешалась, румянец выполз на щеки, шею, декольте; она прикусила нижнюю губу. Мгмм, может, это выход…?
Пан Бербелек сильно прикусил себе язык. Заболело, как следует. Он даже замигал, чтобы отогнать слезы.
По мине дочки он прочитал, что она приняла это как признак огромного волнения. Тут уже он не выдержал и расхохотался.
Пара родичей обменялась непонимающими взглядами. Абель на всякий случай отступил к окну — лишь бы подальше от отца.
— Н-да, — просопел Иероним, пытаясь сдержать гомерический смех, — именно так я себе нашу встречу и представлял.
Ясное дело, что он никак ее не представлял. Не то, чтобы не желал себе этой встречи; вот это уже означало бы, что о себе — и о них — думал. Тем временем, Абель с Алитеей абсолютно не принадлежали его жизни, детей он потерял вместе со старой морфой, с Марией и тамошней карьерой, тамошними мечтами, тамошним прошлым. Здесь, в Воденбурге, он был бездетным холостяком.
Да и какими были его последние воспоминания о них: выезд из Посен, Мария на санях, от лошадей пышет паром, Алитея с Абелем забравшиеся под шкуру, из под которой выступают только их головы — круглые, ясные личики детей в немом изумлении; сколько это им было лет: пять, шесть? Понятно, что они его не узнали.
Иероним вздохнул, выпрямился, добился контроля над лицом.
— Не буду строить из себя блудного отца, — сказал он. — Я не знаю вас, вы не знаете меня. Понятия не имею, что ваша мать натворила в Бресле, что пришлось вот так, внезапно, высылать вас через половину Европы к бывшему мужу. Которому, как она сама утверждала, не поверила бы и собаку. Но все это неважно. Вы — мои дети. Я займусь вами, как только сумею, обеспечу свою опеку. Понятно, что поселиться вы можете здесь. Возможно, мы даже подружимся… Хотя, наверняка нет… Как, Абель?
Тот уставился в пол.
— Ээээ…
— Вот именно. — После этого пан Бербелек обратился к дочери, которая продолжала глядеть на него, широко раскрыв глаза. — Сколько вещей вы с собой привезли?
— Два путевых сундука, остальное идет морем, — на одном дыхании, словно загипнотизированная, отбарабанила та.
— Какой корабль?
— «Окуста». Кажется.
— Я узнаю, когда он приплывает; возможно, тем временем, нужно что-то подкупить. О деньгах не беспокойтесь, тут уже ничего не изменится, я и так до сих пор вас содержал. Но этого вам мать наверняка не говорила.
— Почему же, — буркнул тут Абель. — Говорила.
Пан Бербелек покачал головой.
— Ей это будет засчитано. Вы уж простите мне этот яд, которым, время от времени, плюну в нее — уж слишком много собралось. Конечно, на самом деле, свинья — это я, а она была права. Похоже, она была хорошей матерью, правда?
Алитея отвернулась, падая лицом на покрывало. Черные волосы полностью заслонили лицо, но никак не глушили звуков плача.
— Она сказала, что вернется! Вернется! Она жива!
Абель встал между отцом и сестрой.
— Вам будет лучше выйти.
Пан Бербелек вышел.
Спускаясь в кухню, он снова приложил палец к шейной артерии. Дыхание было еще более медленным, чем мысли — его с трудом приходилось выталкивать из легких. Нечего было так беспокоиться. А разум всегда должен господствовать над сердцем, морфа над хилой.
Ознакомительная версия.