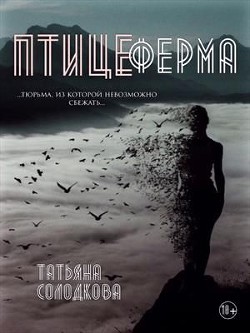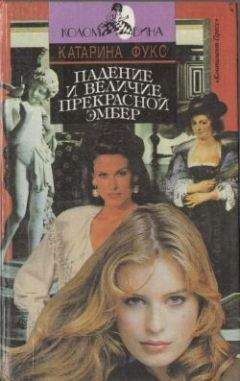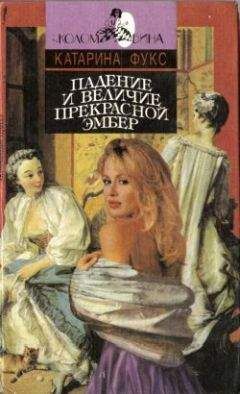Похоже, задать Пересмешнику вопрос по поводу его неожиданного желания помочь мне сегодня не удастся. Кайра считается самой красивой женщиной Птицефермы. Вряд ли тот откажется, если она предложит ему уединиться сразу после ужина.
Что ж, придется подождать.
Сажусь рядом с Чайкой. Если бы было другое место, выбрала бы его, но альтернатива — рядом с Главой. Поэтому потерплю болтливую компанию Чайки. А молчать эта женщина не умеет.
— Что, ревнуешь? — ожидаемо заговаривает та, едва я сажусь.
— К кому? — не сразу понимаю. — Ааа, — прослеживаю ее взгляд, где Кайра уже откровенно поглаживает Пересмешника по плечу. Они о чем-то разговаривают, но далеко, не слышно. Мужчина улыбается, Кайра млеет. — Нет, не ревную.
— А зря. Кайре он правда понравился.
— С чего вдруг? — мне бы промолчать, но кто-то тянет меня за язык.
Скорее уж поверю, что Кайра решила таким образом отомстить мне — все ведь думают, что мы любовники.
— А с того, — Чайка понижает голос и даже заговорщически склоняется ко мне поближе, — что с Зябликом она раньше ни-ни. Он же был лучшим другом Чижа. А вчера… вот. И говорит, у него размер, — для наглядности сводит большой и указательный пальцы, оставив между ними сантиметров пять. — Вот и посмотрела, кого ещё можно взять себе в пару. Не Пингвина же, — гаденькая усмешка, — все знают, что он скорострел. А новенький ничего, симпатичный. Может, и в штанах все хорошо.
Язык без костей — так говорят о людях вроде Чайки.
— Зачем ты мне все это говоришь? Вы же вроде как с Кайрой подруги.
Чайка смотрит на меня как на умалишенную.
— Подруги конечно, — выпрямляется на скамье, что бы гордо посмотреть на меня сверху вниз. — Потому и говорю — предупреждаю: не стой на пути у моей подруги.
— Совет да любовь, — бормочу и отворачиваюсь.
Успеваю заметить, как Пересмешник аккуратно снимает ладонь Кайры со своего плеча.
Чайка же, поняв, что я не собираюсь спорить и отстаивать свои права на не принадлежащего мне мужчину, тут же теряет ко мне интерес.
— Видела у Олуши синячищи? — громким шепотом обращается к сидящей с другой стороны от нее Майне. — Видать, Момот поколачивает ее во всю. Интересно, он такой здоровый, а она…
Майна что-то негромко ей отвечает. Не вслушиваюсь.
* * *
Гору посуды перемываю в одиночестве.
Сова ссылается на боль в ноге и ретируется с кухни почти сразу. Готовит она с удовольствием, а вот моет через силу и всегда норовит улизнуть. Сегодня оно и к лучшему — не хочу ни с кем разговаривать.
Вернее, я бы поговорила с одним единственным человеком, действий которого по-прежнему не понимаю. Но Пересмешник, ожидаемо, исчез из столовой в компании Кайры, с радостной физиономией повиснувшей на его руке. В мою сторону даже не взглянул.
Может, теперь Кайра от меня отстанет? Решит, что победила, и уймется?
Хотя на Чижа я тоже никогда не претендовала, но та все равно находила повод для ссоры: не туда посмотрела, не так сказала. Ревность — второе имя Кайры, и для того, что бы ее распылить, не нужно ничего делать, достаточно просто пройти мимо мужчины, которого девушка считает своим.
Руки работают с привычной скоростью, независимо от мыслей, которые гоняю в голове. Сперва о Сове, затем о Пересмешнике, после — о Кайре. Но в итоге все равно о Нике.
Кто же ты такой?
Только я уверилась, что мы были друзьями. А потом эта постельная сцена. Какая интересная у нас была дружба…
Мои мысли упрямо возвращаются к Нику, снова и снова. Но мне сейчас нужно не это. Кем бы мой друг-любовник ни был, он где-то там, а я здесь. Я хочу вспомнить себя, понять, за что оказалась здесь. Мне нужны факты, а меня накрывает чувствами, совершенно ненужными сейчас и неуместными в этом месте.
Прижимаю мокрую, в мыльной воде руку тыльной стороной ладони ко лбу. Голова разболелась. Никогда не страдала мигренью, а сейчас виски моментально сдавливает, стоит лишь попытаться вспомнить. Проклятый слайтекс.
Вздрагиваю от скрипа двери. Оборачиваюсь: Олуша. Стоит, опустив голову и снова завесившись своими длинными иссиня-черными волосами, как шторой; смотрит в пол.
— Можно? — пищит скромной мышкой.
Внутри снова просыпается волна жалости, но нет, я не забыла, что ещё вчера эта девчонка была готова отправить меня на виселицу только потому, что испугалась за себя.
Дергаю плечом.
— Заходи. Можешь помочь, если хочешь, — киваю на уже невысокую стопку немытой посуды.
Но Олуша пришла за чем угодно, только не помогать.
— Посижу тут, — вскарабкивается на высокий табурет, сидя на котором даже не достает ступнями до пола; держится пальцами за края сидения, болтает ногами в воздухе — точно подросток на заборе. Смотрит по — прежнему в пол.
— Сиди, — разрешаю.
Не скажу, что после вчерашнего общество девушки мне приятно, но не гнать же ее? Кухня — место общего пользования. Приди она в мою комнату — пожалуй, я выставила бы ее вон.
Тем не менее в помещении чувствуется напряжение. Стопка посуды убывает, а Олуша не собирается ни уходить, ни говорить, зачем пришла.
Ладно, ее дело.
Заканчиваю с посудой, вытираю руки жестким полотенцем. Спину ломит — сегодня я слишком много времени провела в вертикальном положении. Но я уже встала и показалась на глаза — больше поблажек мне не будет. А завтра ждет огород — пора вливаться в привычный ритм.
Так как Олуша по — прежнему молчит, развешиваю полотенце на веревке, протянутой над печью, самодельная труба которой уходит в вырезанный в крыше проем, отряхиваю ладонь о ладонь и поворачиваюсь, что бы уйти. Хочется Олуше посидеть — пусть сидит. А мне, с моей спиной, пожалуй, лучше прилечь.
Но выйти не успеваю.
— Я тут от Момота прячусь, — догоняет меня тихий голос девушки.
Останавливаюсь.
— Думаешь, здесь он тебя не найдет?
— Он знает, что я на кухне. Я сказала ему, что Сова велела помочь тебе.
У нее обе руки синие. И скула, кажется, припухшая. Черт.
Не могу, не могу не замечать и делать вид, что все так, как и должно быть. ТАК быть не должно.
Наверное, что-то меняется в моем лице, потому что Олуша вдруг спрыгивает с табурета и бросается мне в ноги, обнимает колени. Я ошарашенно отступаю, беру девушку за плечи и пытаюсь поднять, но та вцепляется крепче и отчаянно мотает головой.
— Гагара, Гагара, пожалуйста, — шепчет, задыхаясь, — ты такая смелая. Ты даже Филину перечишь. Спаси меня, убей Момота. Я боюсь, что Кулик сам решится. А если Глава узнает, то он его повесит. А ты… А тебя все равно… Тебе уже все равно. Филин тебя не любит, он найдет повод… А так ты мне поможешь. Очень поможешь… — все это быстро, почти скороговоркой.
Каменею. Стою и не двигаюсь, позволяя ей омывать слезами мои колени.
То, что я сказала вчера в бреду… Да, у меня зубы сводит от того, как устроена жизнь на Птицеферме и из-за невозможности ничего изменить. Если бы Олуша решилась, я бы прикрыла ее, сделала то, что отказалась сделать она для меня (хотя в ее случае это не было бы ложью). Я солгала бы и обеспечила ей алиби, рискнула бы. Но сделать все моими руками, что бы потом…
— А потом ты пойдешь к Филину и сдашь меня, — произношу холодно. Это даже не вопрос, теперь я точно знаю, что так и будет: сдаст не задумываясь, чтобы обезопасить себя.
— Не сдам, не сдам, — плачет Олуша. — Только если он спросит, я не смогу соврать. Но только если спросит…
Мне тошно. Мне дурно.
Мне предлагают отличный способ самоубийства. Прямо как в дешевом бульварном романе: пожертвовать собой, но изменить чью-то жизнь к лучшему. Не можешь переделать весь мир, начни с малого — так, кажется, говорят?
Но пожертвовать собой и позволить себя использовать, а затем выбросить на помойку — не одно и то же. Впрочем, не уверена, что мне в принципе свойственна жертвенность. Во всяком случае, сейчас я испытываю что угодно, кроме жалости.
— Отпусти меня.
— Гагара, пожалуйста…
— Отпусти, — повторяю тверже.