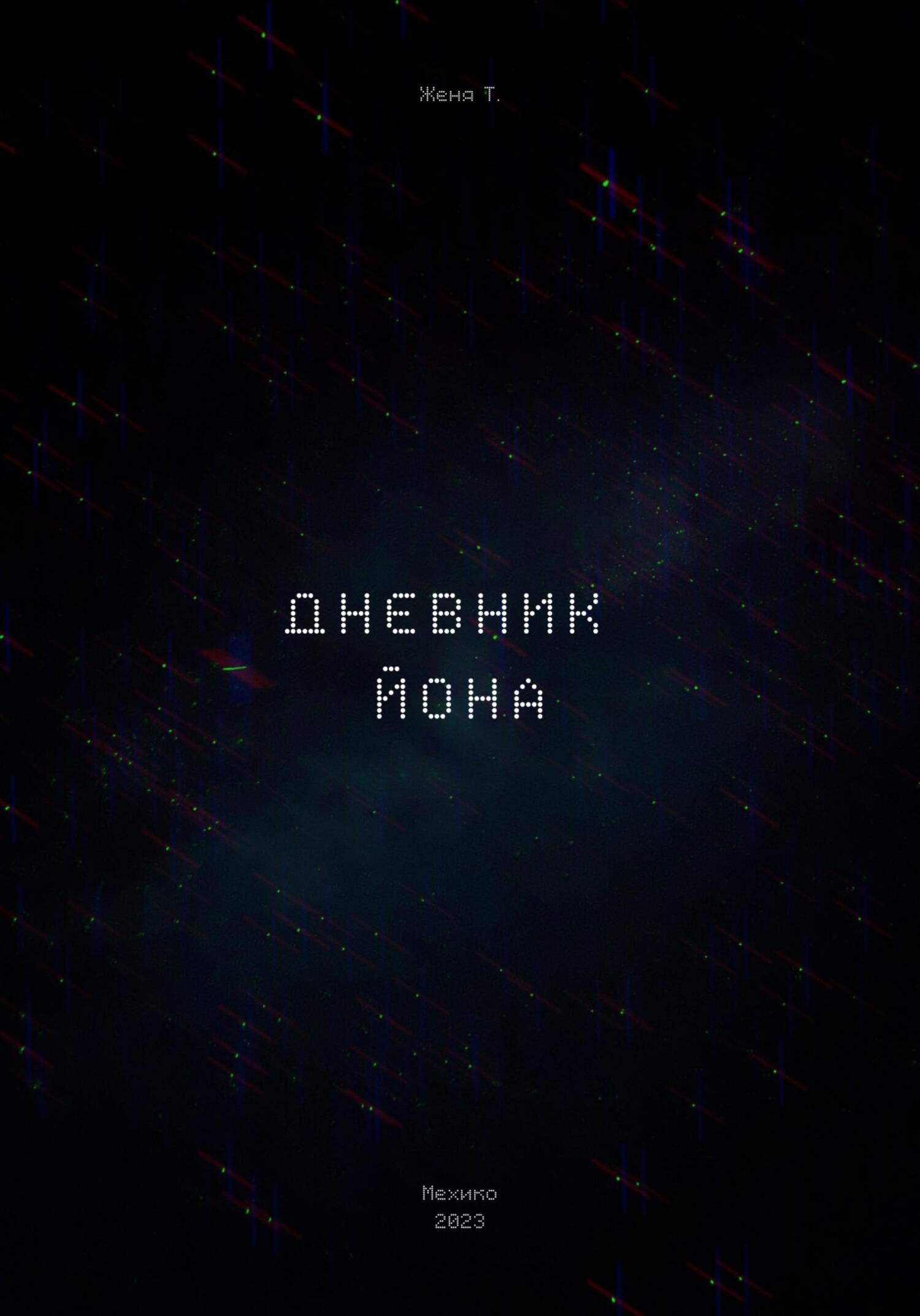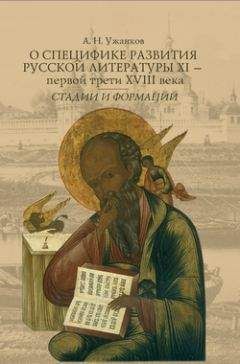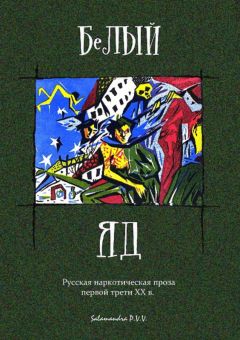нервов: когда тебе плохо — они больше про море, когда хорошо — про весенний лес.
Я вспоминаю раз за разом наше все. Неделю того покоя, прибившего к постели болью, когда мы успели поговорить и помолчать обо всем, без страха, что кто-то из нас опять испарится, сломается или просто уйдет. Без надуманных попыток показаться лучше, сильнее и чище, чем мы есть на самом деле. Мы тонули в тепле одеял и поцелуев, пересмотрели сотню сериалов, двигались медленно, чтобы не сделать друг другу больно, приносили друг другу воду и чай — я не знал тогда, что ты вот так умеешь в жертвенную заботу, с таким открытым сердцем. Я не верил, что это ты, и в то же время понимал: вот это ты настоящая. Ты обезоруживала меня своей нежностью, и я хотел давать тебе в разы и в разы больше. Вот тогда я, наверное, еще сильнее полюбил тебя.
А потом… Потом началась война. Отмеченная на календаре томительной и уничтожающей точкой, осознанием собственного ничтожества и бессилия, нежеланием говорить на своем родном и любимом. Наша Субинэ напала на Олодо — кто виноват, кто кого довел, кто решил показать свою мощь, кто кого вынудил, кто кому не оставил выбора, у кого корона оказалась тяжелей — я не хочу даже думать об этом позоре, который разбил на «до» и «после» миллионы жизней. Вне зависимости от того, на какой кто оказался стороне, всех субинцев война лишила покоя, кого-то — работы, дела жизни или даже близких, а олодинцев — мне больно говорить, что пало на их долю: холод, голод и смерть…
Война — это война. На любой планете, в любые времена, ради любой цели: война — это про убийство и жестокость, про пренебрежение всем, до чего дошла цивилизация, про первобытный страх, про зверства и инстинкты, про ложь и ссоры, про утраты и горе. В ней нет величия и победивших, в ней нет освобождения. Меня тошнит от той войны, что развязала наша родная Субинэ — мне жаль мою страну, которая оказалась в кажущейся бесконечной власти алчных аллигаторов.
С началом войны весь мир — по-крайней мере вокруг нас — замер на миг, а потом начал рушиться. И именно в этом мы с тобой, моя Сольвейг, нашли спасение друг в друге. Ты закрылась от всего в страхе и апатии на какое-то время, а я пытался оградить тебя, сам теряясь день ото дня. После — ты нашла в себе силы выстоять и уже защищала меня от нападающих ужасов новостей, которым дела нет до пресловутых личных границ.
А потом, совсем ожидаемо, тебя затянуло в бесконечную работу — моя-то не прекращалась: наука, пожалуй, тем и хороша — всегда отстранена, как будто нейтральна и суха, неэмоциональна (пока ее не прибегут к рукам власть имущие, конечно). Ваше же издание рухнуло в первый же месяц, как и все остальное вокруг, но быстро восстановилось — и мы практически перестали видеться… Благо, мы уже жили вместе и наслаждались друг другом ночами — теми ночами, которые, казались, уносят нас далеко-далеко от сходящей с ума Триаде.
Кстати, помнишь, как мы на это решились? Я вот тоже нет (улыбаюсь!). Просто так случилось, что ты перевезла ко мне одну сумку, потом вторую, потом осталась у меня, пока я был в командировке на станции. Позже мы решили снять что-то побольше… Наша милая квартира с закатами — Зольде действительно ставила нам безумные спектакли! Мы стояли на балконе и смотрели, как она заходит за горизонт, долго и протяжно напевая себе под нос спокойную песню. Недалеко от дома текла река: мы нашли там свое место, где иногда бегали, кстати, мыши, и оттуда, нечасто, но оттого особенно ценно, тоже наблюдали за звездными перфомансами, строили планы, говорили в искренности обо всем и больше всего — о нас.
В один выходной мы отправились к Северному каньону: рассекали чистую и тихую его гладь на бутылочного цвета лодке, напевали наши песни, я фотографировал тебя, а ты спокойно смотрела на бушующие волны вокруг. Я был так счастлив рядом с тобой! И остаюсь твоим, моя дорогая Сольвейг. Даже здесь и сейчас — я уже не знаю, где это «здесь» и когда это «сейчас», но я точно знаю, что ты, на уже далекой от меня Триде, вспоминаешь меня. И я в сплетении звезд будто вижу твой добрый взгляд.
Где ты… Где я… Где экипаж… И когда я увижу свет. Меня накрывает пустота. У меня остаются только воспоминания и сны.
день 43 последней трети 3987 года
Выработал себе «правила жизни» (или уместнее — «выживания»?!), чтобы окончательно не съехать с катушек. Правила, которые должен соблюдать ежедневно, — без режима я рискую впасть в окончательную апатию, а мне нельзя, я точно знаю, что нельзя: где-то меня ждет Земля, а по другую сторону — любимая женщина.
Я встаю в одно и то же время каждый день, завариваю кофе (вернее, его декаф-аналог — очень разбавленный, это пойло, извините, напиток, надо растянуть на как можно дольше), выпиваю кружку за чтением (что-то из художки, для души), потом полчаса на беговой дорожке. Душ. Дальше завтракаю чем-то простым — запасов еще много, не то чтобы супервкусно, но есть хочется все время. Снова читаю (снова для души). Потом принимаюсь за работу, убиваю так часа четыре. Обед обычно готов со вчера, поэтому через час после быстрого обеда тренируюсь. Слушаю три лекции на три разных темы. Поверить трудно, но в этом прекрасном трипе я решил поизучать такие — ммм — науки: философию последней эры, историю техноискусства и даже альтернативную астрономию. Любопытно, ничего не скажешь. Вечером я опять либо читаю, либо смотрю кино. Сон — чаще всего переполненный каким-то сумерками прошлого, отголосками и откликами, какой-то смутной яркостью и наполненностью. Просыпаюсь посреди ночи (ночи? а тут бывает день? усмехнулся) уставшим и сплю еще пару часов, чтобы наконец-то выспаться без этой какофонии образов и символов.
День за днем, час за часом одно и тоже. Совсем неплохо, если подумать. Совсем неплохо! Совсем хорошо!!!
На истерике… Я почти на грани. Хочу все закончить. Каждый день — бой, страшная борьба, я не хочу просыпаться, я хочу заснуть и чтобы больше меня ничего не трогало, и мне не пришлось снова тянуть эту лямку. Гребаный день сурка, у меня больше нет сил тебя проживать. Я ненавижу