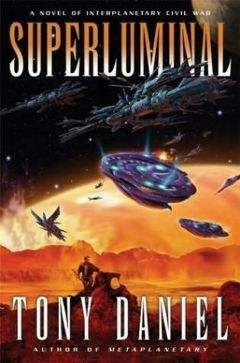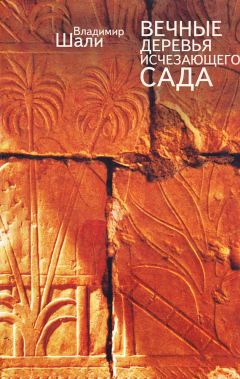Мысль о том, что когда все закончится — если когда-нибудь закончится, — ему придется вернуться к прежней, одинокой жизни, казалась невыносимой. Единственная проблема — он не был уверен, что Молли чувствует то же самое. Времени после семинарии прошло много, и она сильно изменилась — не то, чтобы стала другим человеком, но определенно человеком другого типа, Больштм Массивом Персоналий. Хотя в начале войны ее и переключили в режим одной индивидуальности, в душе она осталась набором многочисленных копий, каждая из которых жила по-своему. Все эти «другие» ушли на время, а может быть — навсегда.
На Тритоне у нее была возможность развернуться в полной системе, но она этим шансом не воспользовалась. Молли была БМП Мета, художником, чье сознание некогда распределяясь вокруг солнца. Хотя она и не говорила об этом прямо, Андре знал — пока его подруга не вернется к прежнему существованию, полумеры ее не устроят. Она останется простым смертным.
Такая решимость лишь разжигала его любовь.
Андре и сам чувствовал себя другим человеком. Подобно Молли, он изменился как физически, так и ментально. Когда-то давно он умер на Луне, а потом реализовался в ином, своем нынешнем теле. Он обитал в копии своего разрушенного тела. Клон. С тех пор прошло двадцать лет. В клонированном теле Андре жил дольше, чем в оригинальном.
Молли взяла на себя функции администратора убежища. БМП на Тритоне было немного, и местные часто обращались к ним за помощью и руководством как в политических, так и социальных вопросах.
Какая чепуха, думал Анре. Две, три головы — даже пятьдесят голов — ничем не лучше одной, если все они заняты одними и теми же мыслями. Но кастовая система сложилась, и Молли — имевшая два последних года всего лишь статус резидента — была включена в состав триумвирата, надзиравшего за работой убежища. Работы хватало, поскольку на площади, вмещавшей не более трехсот человек, разместилось более тысячи.
По прошествии недели Андре и Молли решили составить для себя расписание встреч. Только так удавалось выкроить друг для друга хоть какое-то время. Странно — находиться всегда практически рядом, но часами не иметь возможности видеться.
Встречались обычно на небольшом участке, где Андре создавал свои скульптуры. Остальные почтительно подвигались, образуя круг уединения радиусом в добрых двадцать футов. Андре старался заставить себя забыть о постоянном прессе окружающих, что получалось, когда он занимался складыванием камней. Помогало и то, что Молли нравилось наблюдать за ним в такие моменты. Его каменные композиции она считала формой искусства. Для Андре такая работа имела некую завершенность. Ты находишь подходящую трещину в пустоте и заполняешь ее чем-то. Почему? Потому что есть трещина. Потому что рядом валяются камни. Потому что ты сам здесь же.
А вот найти подходящее место, чтобы заняться любовью, было труднее, но пару раз им удавалось и это. Андре хорошо знал сад, знал, сколько точно инструментов может поместиться в отведенном для их хранения помещении, знал, сколько места займут два тела в вертикальном положении. Приходилось балансировать, исхитряться. Получалось не идеально, недостаточно артистично, но все равно приятно.
После второго такого свидания они вышли посидеть на камне. Камень был большой, но в незначительной гравитации Тритона Андре передвигал его как садовую скамейку средней величины. А еще он знал особенности каждого камня в саду. Этот он притащил из монастыря. Раньше камнем пользовался отец Капабилити, монах, который и научил Андре этому искусству (а заодно спас от очередного приступа отчаяния). Андре знал, что обязан ему жизнью. Если он и стал балансером камней, священником и садовником, то только благодаря отцу Капабилити.
Земля содрогнулась. С потолка посыпались песчинки. Бомбардировка продолжалась.
— Сегодня ощущается сильнее. Или бои идут ближе, или они сбрасывают что-то потяжелее гвоздей, — сказала Молли, потягивая воду из чашечки. Воду Андре нацедил из крана на стене, а чашечка служила когда-то для хранения семян. Дырочку в донышке он заткнул кусочком пробки. Далеко не бокал, из которого он попивал вино в артистической мастерской Молли в Диафании. Но до той мастерской сто миллионов километров и полдесятка лет.
— Можно проверить мерси, — отозвался Андре.
Молли покачала головой.
— Скоро и так узнаем. Не хочется слушать новости. — Она отпила еще немного и передала чашку Андре. Он тоже сделал глоток. Пожалуй, эта вода куда вкуснее самого лучшего бургундского.
— Какие у тебя планы на шоу?
— Все рвутся принять участие, — ответила Молли. — Будет… по меньшей мере интересно. Есть даже пьеса.
— Слышал. Один из моих прихожан играет роль Алсибиадаса Моргана.
— Я думало, что если нас на что и хватит, то в лучшем случае на какой-нибудь фарс Меллера. Но Кван захотел поставить что-нибудь посложнее, поэтому остановились на «Кончайте трепаться, мистер Рабби».
— Хороший выбор, — одобрил Андре. — А какие проблемы в реальности?
— Нам выделили еще немного места в гристе, но при загрузке копий, базовые службы могут дать сбой. Нам и так едва удается кормить всех. Энергозатраты большие, а Милл работает сейчас только в половину мощности, так что проблемы есть, и очень серьезные.
— Уверен, вы справитесь. Что-нибудь придумаете. — Он вернул чашку Молли.
— У меня такой уверенности нет. И если у нас ничего не получится, тебе придется решать, кто останется в спасательной лодке, а кому придется уйти.
— Мне?
— Люди верят в тебя и считают, что ты поступишь по справедливости.
Андре вздохнул.
— Наверно, ты права. Будем молиться, чтобы до этого не дошло. — Стены снова задрожали, с потолка снова посыпалось. — Он посмотрел вверх. — Надо бы послать кого-то наверх, но… Что у нас с другими убежищами?
— Я уже со всеми связалась. Официально все заполнены.
— Да…
— Ну, пока же держимся.
— И у меня есть ты.
— Ага. — Молли допила воду и поставила чашку на камень, на котором сидела. — Странно. Сейчас я даже не могу представить, что смогу снова жить без тебя.
— Я чувствую то же самое, — выпалил Андре.
— Уж не закрался ли в твою душу ползучий агностицизм в отношении любви?
— Это всегда было твоей проблемой, а не моей.
— Наверно, ты прав. То время, когда я была ироничным куратором и вела богемный образ жизни, осталось где-то далеко-далеко в прошлом.
— Послушай наивного идеалиста. Теперь, когда я нашел тебя снова, я вцеплюсь в тебя, как рачок в днище корабля, плывущего к Новому Свету.
Молли усмехнулась.
— В данный момент я никуда не плыву. Ты, полагаю, тоже.
— О нет, нет, мы оба куда-то плывем. Ты просто привыкла думать трехмерно, а ситуация требует четырехмерного и даже пятимерного мышления.
Еще один толчок едва не сбросил их с камня. Завыла сирена. Сигнализация работала, конечно, и в мерси, но в дополнение к ней в убежище использовали и старомодные сирены — чтобы все наверняка услышали сигнал. Они передавали разные предупреждения, но Андре уже оставил попытки запомнить, какое что означает.
А вот Молли знала. Что и неудивительно, в конце концов она участвовала в разработке системы.
— Нарушение структурной целостности. Я сегодня дежурная, так что придется пойти и посмотреть.
Андре убрал руку с ее талии.
— Если выживем, как насчет того, чтобы встретиться завтра? Скажем, в 17:00?
— Я не против, отец Сюд. — Молли улыбнулась. — На прежнем месте? Среди приборов и инструментов?
— Ничего не имею против.
— Хорошо. — Она чмокнула его в щеку и поднялась. Андре знал, ей придется подняться почти до поверхности, чтобы выяснить, что случилось.
— Будь осторожна. Там много всего такого, что было бы не прочь убить тебя.
— Знаю. До вечера.
— Если я усну, просто возьми меня за руку и подержи. От этого я никогда не просыпаюсь.
— Обязательно, — пообещала Молли. — Люблю. — Она сжала его руку, повернулась и поспешила к аварийной команде.
Андре проводил ее взглядом.
— Чтоб меня, — прошептал он. — Я тебя тоже люблю.
Не успел он обдумать это, как к нему решительно подошла расстроенная молодая женщина.
— Отец Андре, можете уделить мне минутку?
Он улыбнулся. Не фальшиво и даже не принужденно. Может быть, немного устало.
— Конечно.
— Я никогда раньше не ходила ни к шаманам, ни к священникам, поэтому, наверно, немного смущаюсь.
Андре похлопал по камню.
— Насчет этого не беспокойтесь. Садитесь и говорите со мной так же, как говорили бы с любым другим.
Я ведь и есть такой же, как все остальные, подумал он. В этом знании таилось огромное облегчение. Необязательно знать все. Или даже что-то вообще. Твое дело просто быть тем, с кем люди разговаривают.