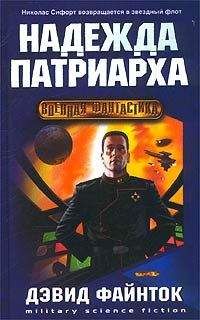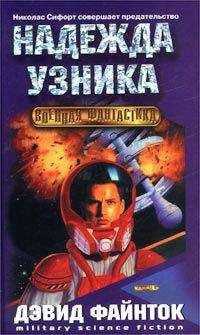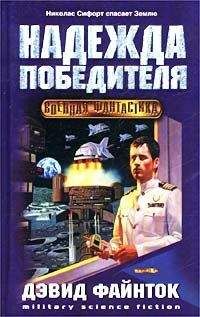Мы встретились в обеденном зале, который единственный мог вместить столько людей.
В сдержанных выражениях Хазен начал выражать похвалы погибшим, чьи бездыханные тела я обнаружил на траве в тот ужасный июльский день.
«Если бы я лишился своих родных детей, это было бы так же больно», – подумалось мне.
Когда Хазен закончил, я выкатился вперед, чтобы сказать свое слово. Я говорил о несбывшихся надеждах, о безвременно оборвавшихся жизнях, о потерявших друзей кадетах и гардемаринах.
– Я прибыл сюда из уважения к вашим сокурсникам, которые погибли, но больше – из уважения к оставшимся. Чтобы сказать о наших ошибках по отношению к вам. – Я заставил себя взглянуть в устремленные на меня глаза.
– Служба на Флоте – это великая честь и свидетельство доверия, и ничего больше. Вы правы, абсолютно правы, доверяя вашим товарищам кадетам, гардемаринам, инструкторам, вашим офицерам. Как и они непременно доверяют вам.
В зале не раздавалось ни звука.
– Когда кадеты из казармы Крейн проходили через проверочную камеру, они все были уверены, что ни один человек на Флоте Господа Бога не желает им вреда. Что никто, вне зависимости от политических убеждений, не предаст ту веру, которая скрепляет наше братство. Каждый из нас, когда мы летим к дальним звездам, всецело полагается на своих товарищей. И эта вера в Академии Девона была поколеблена. Теперь я надеюсь и молюсь о том, чтобы эта вера была восстановлена. От лица Организации Объединенных Наций, от правительства, благословленного Господом Богом, я смиренно прошу вас извинить всех нас. – Я медленно, глубоко вздохнул. – Все свободны.
Уже в своем офисе Хазен помешивал лед в бокале.
– Хорошо сказано. Именно этому мы и стараемся их научить.
– Благодарю вас. – Я заметил, что он или его предшественник вернули на место большую часть убранной мною мебели. Мне казалось невозможным ходить взад-вперед, постоянно ударяясь голенями о какие-то углы.
– Жаль, что не все так же считают. – Он говорил внешне непринужденно, но с внутренним напряжением. Чувствовалось, что он хочет мне кое-что рассказать.
– А кто считает по-другому?
– Вы на службе дольше меня. Флот всегда был так политизирован?
Я подумал об адмирале Духани и о его махинациях с Сенатом в мои молодые годы.
– Время от времени.
– В наши дни это какое-то форменное безумие. – Хазен замялся. – Эта проклятая «Галактика» сделалась каким-то символом. Все мои кадеты хотят на нее попасть. Три гардемарина подали рапорты о переводе на этот корабль.
– При чем тут политика?
– Мне позвонили с полдюжины офицеров, ошеломленных вашей – прошу прощения, нашей – новой экологической политикой. Они боятся, что будет сорвано строительство «Олимпиады» и других таких кораблей. Рассчитывают, что я мог бы оказать какое-то влияние на вас, и так далее.
Мои глаза сузились:
– Кто звонил?
– Сэр, вы же только что говорили о доверии?
Я закрыл глаза. Во мне кипела ярость. Если я ему прикажу, он наверняка мне расскажет – но станет меня презирать. Мне следовало быть благодарным Хазену уже за то, что он намекнул мне на это. Я и так знал, что после прохождения законодательства в Сенате меня ждут трудные переговоры в Адмиралтействе. Что касается варварского нападения на мой дом и борьбы за голоса избирателей, то решение этих задач при нынешней суете сует вообще откладывалось на неопределенный срок.
– Думаю, – сказал он тщательно выбирая слова, – Флот должен услышать, что наше внимание к экологии никак не повлияет на строительство кораблей и не ослабит в конечном итоге Военно-Космические Силы.
Но это было как раз то, чего я никак не мог обещать. Нет сомнения, что наши мероприятия по защите окружающей среды привели бы именно к такому результату. Следовало мне сказать это Хазену? Я испытывал колебания, не будучи уверенным в его лояльности.
За окнами кадеты маршировали строем при свете заходящего солнца. Я подозревал, что это шоу было устроено в связи с моим присутствием.
– Прибывших с Фарсайда вы пошлете обратно наверх?
– Да, и скоро. Я могу дать им небольшие отпуска, пока они на Земле. – На базе Флота в Фарсайде, на обратной стороне Луны, наши люди были лишены обычных контактов с Землей. Не было частных телефонных звонков, спутниковых телетрансляций, кроме необходимых Флоту.
Родители кадетов будут рады неожиданному отпуску их чад. Я представил, как Бевин старательно готовится к приезду отца, и вздохнул:
– Полагаю, мне следует забрать своих помощников и оставить Академию.
– Как вы находите Бевина? Он хорошо справляется со своими обязанностями?
– Вполне.
Теперь, когда я стал «зеленым», – переворот, от которого у меня все еще шла кругом голова, – и речи не было о том, чтобы испытывать неприязнь к его политическим взглядам.
– А Ансельм?
Следовало ли мне сказать, что гардемарин – пьяница? Нет, это бы мрачным пятном легло на его послужной список, а я никак не мог на это пойти.
– Жаль его за отца.
– А? О, это… Да. – Он встал. – Я провожу вас до вертолета.
* * *
На тяжелом военном вертолете нас сопровождали коммандос из службы безопасности ООН. О моей поездке в Девон никому не сообщалось, как и о возвращении. Бевин с Ансельмом болтали, несмотря на шум двигателей. Майкл сидел рядом, чтобы все время быть у меня на глазах. Он скверно себя чувствовал и время от времени вытирал рот носовым платком.
Я скрестил руки на груди и нахмурился. Мальчишка был невозможным. Когда мы вернулись в гостевой домик за вещами, он, чрезвычайно раздраженный, спросил меня:
– А почему я не мог пойти с вами? Я заталкивал в сумку свою куртку:
– Это особенная служба, для офицеров Флота. – Кадеты заслуживали моего извинения, но было немыслимо выполнять эту неприятную процедуру на глазах у посторонних. Никто, кроме военных, даже члены их семей не были допущены.
Майкл тихонько выругался и отвернулся. Вскипев от ярости, я схватил его за руку:
– Что ты там сказал? – Он пожал плечами. – Я слышал: «Долбаная чушь». – Он ничего не ответил, но вид у него был вызывающий.
– В гальюн! – Я указал в сторону туалета.
– Почему?
– Шагай! – Я двинулся за ним, слегка его подталкивая. Взял с полки кусок мыла:
– Используй по назначению.
– Не имеете права!
– Два дня назад ты обещал мне начать новую жизнь. В моем кабинете, после телесного наказания, он со слезами на глазах пообещал вести себя хорошо.
– Я старался.
– Я не буду терпеть твой грязный язык. «И кто оскорбит отца своего или мать свою, очи его будут ввергнуты в темноту». – Сверкая глазами, я протянул ему кусок мыла. – Делай что говорю!