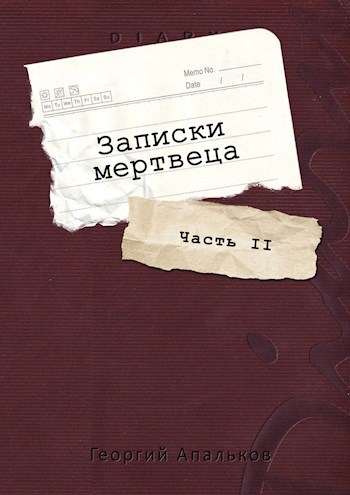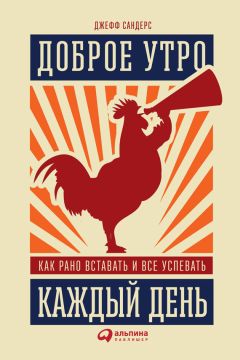Там остались. Там ещё мотор. Мне надо мотор забрать! — вспомнил я.
— Хорошо, спустимся вместе и заберёшь свой мотор.
— Он большой. Поможете дотащить?
— До подъезда только, и быстро. На всё про всё у нас пара минут будет.
— Я там ещё в трупах забуксовал, — снова вспомнил я, — Надо будет тачку толкнуть перед тем, как ехать.
— Хм… Придётся попросить тебя толкнуть значит. Толкнёшь?
— Да.
— Ну всё, давай пока, приходи в себя. Через час выдвигаемся.
— Понял.
Что-то случилось со мной после того, как я тогда оказался на волосок от гибели. Я стал каким-то… более безразличным что ли. Уже тогда, когда мы встретились с теми людьми, я перестал бояться выйти наружу и предстать перед лицом мира, полного орд оживших трупов. Я перестал сопереживать тому, кто начинал писать эти записи, перестал чувствовать себя с ним одним целым. Казалось бы, неплохое качество для выживания в этом аду — не бояться смерти, вернее даже не думать о ней. Но вместе с приобретением этого качества во мне что-то умерло. Какая-то крупица человечности, что ли. Что-то, что делало меня собой, и что-то, что напоминало мне о прежней жизни: до того, как люди перестали умирать.
Леонид Николаевич поднялся на крышу, и я не успел дописать, чем закончился для меня тридцать шестой день. Я отложил дневник и встретил его. Он был один.
— Ф-фух, воняет там, в подъезде, конечно… Ну? Чего показать-то хотел? — спросил он.
— А где все?
— Дома, спят ещё. Давай, доставай там радио своё или с чем ты тут возишься.
— Ну хорошо.
Я включил приёмник и дал ему послушать сообщение диджея на Фаренгейте, повторявшееся по кругу. Он слушал с интересом, который тщательно стремился скрыть. До конца он и вовсе не дотерпел — сказал:
— Ну всё, ладно, вырубай, — и отвернулся, чтобы подойти к краю крыши и в тысячный раз посмотреть вниз, на мертвецов, толпящихся там.
Я молчал. Почему-то мне казалось, что сейчас очень важно, чтобы он первым заговорил.
— И какой план у тебя? — разродился он в итоге, повернувшись ко мне и пристально посмотрев прямо в глаза.
— Нужно найти машину. Я могу один это сделать, чтобы всем сразу не рисковать и не подставляться. Подгоню к подъезду, погрузимся и аккуратно поедем в сторону моста. А там уже по плану этого мужика с радио.
— Да ты ведь сам рассказывал, как буквально в них посреди дороги застрял. Их же там тьма! Как ты проехать-то предлагаешь?
— А это давайте посмотрим сейчас и вместе решим. С крыши округа как на ладони, можно примерно прикинуть, на какие улицы сворачивать, чтобы их там было по минимуму. Только дело ведь не в этом, Леонид Николаевич. Это не самое сложное. Самое сложное — вас убедить уже хоть что-то делать. Без вас ни Ира, ни жена ваша, ясное дело, никуда не поедут, и поэтому слово ваше очень много значит. Вам решать, останутся ли они здесь, ждать, пока закончится вода и пища, или пойдут куда-то, всем рискнув, и, может быть, найдут там что-то получше, чем то, что у нас здесь есть. А есть у нас город, в котором мёртвые сбиваются в орды, и скоро от них совсем будет не спрятаться и не скрыться. Есть у нас станция, которая сейчас, как мы с вами разговариваем, килограммы всякой дряни выбрасывает в воздух, а ветром всё это несёт сюда. И есть квартира с бетонными стенами, которая через пару месяцев превратится в один большой холодильник. Была б моя воля — меня бы уже давно здесь не было. Только я без Иры никуда. А без вас — она никуда.
— Ох, как выдал… Репетировал поди?
— Ещё как репетировал, — спокойно ответил я.
Леонид Николаевич долго смотрел на меня, словно бы думая, что сказать. Поначалу лицо его имело такой вид, словно он собирался по пунктам объяснить мне, почему я неправ. Потом — такой, словно он сейчас набросится на меня, схватит за грудки, оттащит к краю крыши и в ярости скинет вниз. Наконец, он снова переменился в лице, но теперь стал каким-то до крайности жалким и несчастным.
— Боюсь я, Костя, — сказал он, отвернувшись, — Знаю, что так лучше будет. А поделать ничего не могу. Это ж как в лес к волкам выйти. Дом бросить. Ими вон всеми рискнуть. Я ж ради этого всего жил. Дом-то — чёрт с ним. А если этих