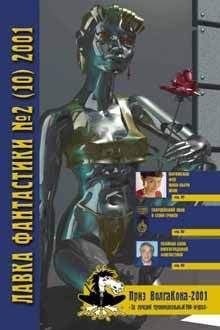Владимир Колышкин
Один день…
Звонкие мерные удары железяки по куску ржавого рельса, подвешенного в центре плаца, возвестили о начале рабочего дня.
Занималось серенькое утро. Резкие порывы ветра пытались разогнать туман. Как гнилая мешковина разрывался он, разлетался серыми клочками, но с сырых, промозглых низин приходило подкрепление. И только когда тусклое светило лениво поднялось из-за горизонта, дело наладилось. Там и сям заструились живительные лучи. Из ветхих убогих бараков-укрытий стали выползать обитатели этого забытого Богом места.
— Выходи строиться! — сиплым голосом командовал Хромой. — На «первый-второй» расчитайсь!
«Первый, второй, первый, второй… первый…» — голоса уплыли к краю плаца, еще скрытого туманом, и звучали оттуда глухо, как из подземелья.
Однорукий подошел к Хромому четким строевым шагом так, что Хромой даже позавидовал его здоровым ногам, — и доложил:
— Роботяги на утреннею поверку построены. Отсутствует один. Диоген.
— Где этот лодырь? — недовольно спросил хромой начальник, стараясь сместить центр тяжести так, чтобы устоять на одной ноге; костыль он демонстративно держал на плече.
Однорукий без команды стал в позу «вольно» и ответил уже без натуги, просто:
— Да где ж ему быть… На пустыре он. В бочке своей спит. Пока светило не припечет как следует, ни за что не вылезет.
Хромой от злости забыл, что он хромой, сделал резкое движение корпусом и чуть было не свалился на землю, если бы Однорукий не поддержал его, деликатно глядя в сторону. Начальник все-таки опустил свой костыль, сделал несколько скрипучих шагов, грузно обрушился задом на валун и, переведя дух, сказал с угрозой в голосе:
— Сходи к этому философу и передай ему, чтобы сейчас же шел на работу, иначе!..
— Сейчас на молебен пойдем… — напомнил Однорукий.
— Скажи, что после молебна, если он не выйдет на работы, я его, тунеядца, диссидента облезлого…
— На святое помазание сам прибежит, как миленький, — вставил подчиненный.
— Если ты еще раз меня перебьешь, я оторву тебе вторую руку! Ногой креститься будешь. Ясно?!
— Так точно! — звякнул пятками Однорукий.
— К философу… бегом — марш!
Подчиненный подпрыгнул и почесал во всю железку, помчался он через плац, через выгоревшую пустошь, где раньше стояла подстанция, через песчаную косу, которую намело последним ураганом, да так и не убранную, и скрылся за барханами. Там его силы покинули, и он потерял сознание.
Очнулся он возле бочки философа. Однорукий окинул взглядом пустырь, увидел длинную борозду на песке и огорчился. Тот, кого он, как представитель власти, должен был отчитать и наставить на путь истинный, волок его, представителя, точно дохлого ящера. Подрыв авторитета налицо. Хромой все-таки напыщенный дурак. Если он так заботится о своем авторитете, ему не следовало бы посылать своего заместителя до раздачи утреннего сухого пайка. Вот же философ — лежит, ухмыляется. Он не бегает сломя голову, не суетится, бережет силы, поэтому никогда не попадает впросак.
— Что это со мной было? — невинно спросил Однорукий, щурясь от солнца, бившего в глаза. — Мне показалось, что я умер.
— Я бы не рискнул сказать, что ты умер, — отозвался философ. — Но и утверждать, что ты жив, тоже не стану.
— Все силлогизмами изъясняешься, — оклемавшись, сказал посланец. — Я к тебе с приказом от Хромого. Он велел передать тебе, философу, что если ты, философ, не перестанешь философствовать и не выйдешь на работу, то он тебя…
— Ну-ну, продолжай.
— Дикси. Я все передал… почти дословно, — ответил Однорукий и попытался встать на ноги.
— Ни пса я не понял. — Диоген перевернулся на другой бок, устраиваясь поудобнее на солнышке. — Ты сходи-ка к Хромому, уточни этот вопрос.
— Я еще не восстановил силы, — ответил однорукий посланник. — Я тут немного полежу, если ты не возражаешь…
— Валяй. То есть — валяйся, сколько влезет.
— Скажи, Диоген, в чем смысл жизни?
— А ты как разумеешь?
— Я полагаю, что смысл жизни состоит в том, чтобы быть кому-то нужным, выполнять полезную для общества работу…
— Реникса, — перебил философ. — Смысл жизни — в самой жизни, и потому, сколько ни работай, смысла от этого не прибавится.
— А может, смысл в чем-то более возвышенном, например, в Боге? Ты вот мне скажи, есть Бог или его нет, я все как-то сомневаюсь…
— Сомнение — это хорошо, — удовлетворенно произнес философ. — Не люблю тех, кто никогда не сомневается — фанатики, дрянь… Если тебя интересуют вопросы веры, я тебе так скажу: мир это сон. Причем, у каждого свой. Стало быть, утверждать что-либо категорично было бы неумно.
— Но ведь без Бога не будет в мире справедливости! — вскричал однорукий богоискатель и от возбуждения даже сумел подняться на колени. — Кто накажет плохих, кто вознаградит праведных? Без Высшего судии всякая жизнь теряет смысл. Зачем же мы живем и мучаемся? Нет, ты как хочешь, но это несправедливо.
— Вот чудак, право, — усмехнулся Диоген. — Ну кто тебе сказал, что мир справедлив?
— Пастор говорит, что Господь справедлив, и каждому воздастся по делам его…
— Для вас Бог, что для Хромого костыль. Придумали гаранта справедливости. Ваша теология — лишь отражение ваших же подспудных желаний. Но это не значит, что так оно и есть на самом деле. Ты говоришь — мучаетесь, страдаете, и все такое прочее. Но вот вопрос. Кто или что заставляет вас это делать? Станьте господином самого себя! И вы избавитесь от страданий. А что делаете вы? Вместо того, чтобы предаваться медитации, вы начинаете стонать: жизнь трудна, жестока и тэдэ. Требуете от жизни — подай то, подай это. «Хорошо, Господи, — идете вы на компромисс, — если уж не на этом свете, то хотя бы за ее порогом, на том свете, но даруй нам блаженство».
Солнышко уже припекало, философ перевернулся на другой бок и закончил свою мысль:
— А я вот ничего не требую. Ни от кого: ни от жизни, ни от коллектива. И уж тем более — от мифической сверхличности, созданной вашим убогим воображением. Есть у меня пустырь, эта бочка, эти деревья… Созерцая природу, я получаю эстетическое удовольствие. Я живу и радуюсь. Еще у меня есть «думатель». — Философ постучал себя по голове. — Что мне еще надо? Я мыслю, следовательно — существую.
— А для чего существуешь?
— Да не для чего. Просто существую, и все! Впрочем, могу и не существовать, мне все едино.
— Почему же тогда не умираешь? — задал провокационный вопрос посланец.
— Именно потому, что все равно… А ты для чего существуешь?