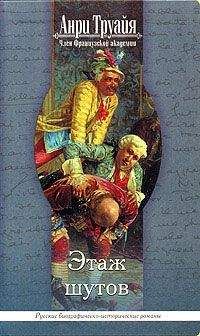Виталий Бабенко
Музей человека
Как-то вечером Игоряша вернулся домой с работы не заблудившись и, тыча ключом в замочную скважину, вдруг понял, что замка в двери нет. Ни дырки, ни пробоя, ни наспех замазанной деревянной пробки — гладкая филенка, и все. Может быть, ошибка? Может, Игоряша попал не туда? Дудки. Номер дома, подъезд, этаж — все соответствовало. Тем более номер квартиры…
«Прфр-р-р-у-у» — тонкий свист у Игоряши не получился. Как раз номер квартиры и отсутствовал. А на месте пластмассовой пластинки с трехзначным числом казенного начертания была привинчена штучная бронзовая табличка.
Сердце Игоряши затрепыхалось, подпрыгнуло и громко екнуло. На табличке красовалась филигрань:
«Музей — мемориальная квартира Игоряши И. Эпоха реставрации социализма. 1989–2029 гг. Охраняется Съездом народных депутатов».
Сказать, что Игоряша окаменел, — значит не сказать ничего. Он высох, полинял, пошел лишаями и струпьями, пустил корни и ветки, зазеленел и тут же пожух. Мысли его просыпались и заскакали, сталкиваясь, как из прорехи гнилого мешка — горох.
«Это какого же ханя, братцы, а? Я что, помер уже?.. А замок?! Может, сплю? Ну, воще… Етушки-нетушки, а год-то?! Двадцать девятый… Стало быть, помер! И враз тебе — музей… Но за что, руль твою двадцать?! Съезд депутатов — мама родная! — охраняет… Жить-то теперь где?.. Новую площадь депутаты разве дадут? Хрен! Я ж помер, так их и не так, и не туда, в три перебора под ребро!!!»
Утробно рыдая и шепча нежности, какие не слыхивала ни одна мать, бухнул Игоряша всем телом в музейную дверь и — влетел в прихожую. Повалил стойку для шляп. На пол шлепнулся. Галстук порвал о гвоздь, в паркет вбитый. Дверь-то оказалась не запертой…
А между прочим, смертный туман обиды, застлавший глаза, помешал Игоряше разобрать нижнюю строку на табличке: «Вход свободный» значилось там мелким шрифтом. Это Игоряша потом прочитает. И; прочитав, обалдеет.
Пол шатало. Игоряша мысленно сгруппировался, ноги расставил, уперся руками и выпрямился-таки. Обвел темным взором помещение. Все как и раньше, но — атмосфера, но — вибрации воздушные, но — фибры невесомые, аромат неуловимый. Музей он музей и есть. Веяло чем-то нежилым, каменным, горелым. Суконкой вощеной пахло, перьевой метелкой для пыли, перекалившимся утюгом, лежалым в углах мусором, притаившимся клопом за обоями. Странный запах с кухни доносился — знакомый, но неузнаваемый пока. Еще пахло временем. Пространством замкнутым. И… самим Игоряшей. Этому обстоятельству живой-неживой-полуживой Игоряша очень обрадовался и даже ощутил пробуждение гордости: его собственный дух царил, хозяйский запах — пенистый, текучий, с парком. Значит, правильно: ЕГО музей.
От тени под дальней стенкой отделилась старушка в гороховом до пят форменном платье и мышиной косынке, с нарукавной повязкой, на которой по трафарету было написано «караул».
— Не дело, гражданин, не дело, — стуча желтыми зубами, заскрипела старушка негодующе. — Не домой вваливаетесь, а в музей входите, в святилище муз, да. Вот вешалку повалили, на паркете натоптали, гвоздь галстуком зацепили. Дурно. А ведь этот гвоздь самолично товарищ Игорь вбивали, не зря трудились, надо полагать. Зачем же интерьер портить? Раз заглянули к нам, так ведите себя соответственно. Кепку вот сюда повесьте, сапоги там поставьте — пфуй, кель одёр! — тапочки наденьте. Вот теперь вы наш гость. Здравия желаю!
В дверь квартиры постучали снаружи. «Отставить!» — заорала престарелая караулыцица что было мочи. И тут же, снизив голос, пояснила Игоряше:
— Вы у нас впервые, потому не знаете. А правило такое: зараз по одному посетителю. Для спокойствия, удобства и деликатности.
Игоряша и слова сказать не успел, не возразил — «да это же я, Игоряша, хозяин сего дома, и музей этот мой!» — как караульная старушка цепко схватила его за рукав и увлекла в комнату.
Какое счастье! Ничего не изменилось в квартире. Бережно отнеслись устроители музея к наследию владельца, пальцем не тронули обстановку, лишь ярлыки повесили, инвентарные номера прибили, да кое-что — особо ценное — под стеклянные колпаки упрятали.
Вот машинка стоит — для комканья бумаги. Занятный приборчик, в детстве еще Игоряшей задуманный и три года назад воплощенный в реальность. Долгими скучными вечерами любил Игоряша — отослав жену из дома на поиски этилированного бензина в заброшенных бензоколонках, — следить, как работает машинка. Как, орудуя железными кулачками, мнет и комкает она бумагу, давит ее хитроумным пуансоном и снова мнет: газеты ли, журналы ли, книги ли в тонкой обложке периода реконструкции — все равно. И вот хитрость какая: подсунь ей бумагу потолще, эпохи реставрации, или картон там — затрясется, заворчит, закашляет… Тут ее спасать надо — совать что потоньше да постарее. Машина прижмет журнальчик стальным, забранным гладким тефлоном, коленцем и опять тузит, дубасит, колотит кулачками. Глядишь, бумага в труху и превращается. А потом эту труху машина кварцевыми зубами пожирает. Жаль вот — старинный пергамент не под силу ей. Не может сладить — и все тут. Игоряша и прижимные винты подкручивал, и резьбу на заводном ключе менял, и главную пружину поставил новую, титановую — все напрасно. Так и осталась машинка только лишь для бумаги. И то хорошо! Теперь приборчик — под колпаком, выносная кнопка «пуск» — на отдельном, красного дерева, пульте. А рядом стопки газет, пачки журналов, полки с книгами. Любому посетителю — просто рай: заложил печатную продукцию в пластмассовый бункер, включил машинку — и смотри, любуйся. Мечта!
Вот письменный стол Игоряши. В красном углу стоит, весь обит плющеным алюминием. Ах, как приятно было Игоряше засыпать над хорошей книгой, положив гулкую головушку на столешницу. Но сейчас к столу не подойдешь — огорожен бархатным витым шнуром, подвешенным на бронзовых столбиках. Обидно! Живо вспомнились Игоряше мучительные часы, когда он соображал, чем бы украсить ореховый стол, какой бы дизайн подобрать, чтобы мебель была и не хуже, чем у других, и гораздо лучше! И придумал. Три ночи подряд плющил молотком пустые аэрозольные баллончики из-под «Дихлофоса» — целая куча «пшикалок» скопилась под раковиной. Вращал при этом красными помутневшими глазами, зубасто огрызался на бранные крики и неприличные стуки верхних и нижних соседей… А потом в одночасье и прибил все «блины» к тумбам стола дюймовыми гвоздями. Тесно прибил, один к одному, так что и дверцы перестали открываться. Лишь столешницу Игоряша оставил нетронутой — чтобы не порвать щеки во время сна. Зато вышло загляденье — лучше, чем в кино. Друзья по книжной части приходили — волновались удивленно: «Как же ты, Игоряша, сподобился на такое? Кто надоумил? Чай, трудно было? Работы ведь не на час, не на два…» Скромничал Игоряша: «Пустяки! Главное, хуля-нда, — чтобы мысль пузырилась. А руки мои золотые — всегда при мне. Ну!»