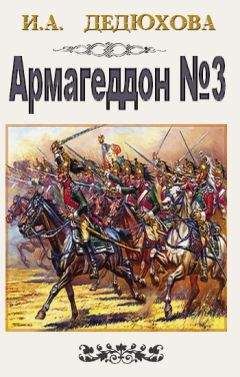ПОСАДКА
С шумом втянув ноздрями колючий морозный воздух, Ямщиков почувствовал, как к нему возвращается уверенность. Они стояли в сгущавшихся сумерках у запертого прицепного вагона. Нахохлившаяся Марина молча качалась рядом, зябко кутаясь в дубленку. Но обнять ее, защитив от пронизывавшего ветра, Ямщиков до прихода Седого больше не решался.
Два раза подходил бригадир состава, стучал в двери вагона и матерился. Возле них так же мерзли на противном влажном ветру с мелким снегом еще человек семь. Потом подошли еще двое каких-то странных командировочных. Они ни на кого не смотрели, они глядели друг на друга, ссутулившись на ветру до такой степени, что, казалось, будто под темными длинными пальто у них скрыты уродливые горбы.
Запыхавшийся проводник подбежал за пять минут до отправления. На шее у него висела какая-то шина, обмотанная несколькими шарфами и полотенцами. Шина, как живая, вертелась на шее, норовя спуститься на талию, но поправить ее он не мог, руки у него были заняты двумя большими корзинами, обвязанными марлей. Он с трудом отпер дверь и, не проверяя билеты, загнал пассажиров в нетопленый, стылый вагон. Ямщиков и Марина все осматривались на платформе, ожидая Седого. Он появился неожиданно, будто вырос сзади них из-под земли.
— Первое купе, — сказал он тихо. И Марина вздрогнула, услышав знакомый голос.
Седой теперь почему-то был в узких темных очках. В руках он держал огромный кожаный баул. Зайдя в купе, Седой бесцеремонно принялся изучать содержимое целлофановых пакетов, которые, вслед за ним, затащили Ямщиков с Мариной. Кроме оставшихся от застолья шести бутылок темного пива, Седой извлек два уцененных журнала «Плейбой», несколько вакуумных упаковок ветчины «Застольной», колоду карт, бритвенные принадлежности, пачку гитарных струн и по набору складных ножей и отверток.
Ловко вывалив все это из пакетов на стол, Седой сразу отложил в сторону лишь эти наборы, бритву и гитарные струны, как вещи, представляющие интерес. Марина и Ямщиков сидели в полутьме напротив него.
— Ну, с чем собрались на очередной Армагеддон, дорогие товарищи? Фотки, пиво, солонина, карты! — не повышая голоса, простонал Седой. — Вы хоть закусывали, соратнички? Вас ведь даже сидя — качает! Вы что, цистерну вылакали? Грег, немедленно отнеси это пиво проводнику! Похоже, некоторые от радости позабыли, куда мы, собственно, собрались… Меня тоже, знаете ли, переполняет счастье от очередной встречи с такими махровыми идиотами… Флик, прошу, унеси ты эти… журналы. По-хорошему прошу: выкини это распространение порнографии в мусорный бак у туалета! Тебе, как… женщине теперь… стыдно должно быть!
Как только покрасневшая и пристыженная Марина, покачиваясь, вышла из купе с пачкой журналов, Седой, жестом остановив Ямщикова, склонился к самому его лицу и с жаром выдохнул:
— Ты, совсем, Грег, с катушек съехал? Окончательно?
— Да я-то здесь при чем? Сам до сих пор пребываю в шоке и смятении! Представляешь, стою на вокзале, соображаю, с какого бодуна меня на вокзал принесло, а тут прямо на меня выкатывает Флик… в таком виде, — с кривой ухмылкой во всю рожу начал оправдываться Ямщиков. — Может, Седой, так для нашего удобства специально продумано? Все-таки ехать долго… cкучно… То да сё.
— Что же ты за идиот, Грег? Зачем ты ее так пивом напоил? Ее же шатает! А блевать начнет? Хоть капля совести в тебе осталась?
— Осталась, осталась, командир! А как же! Много капель! Сортир откроют, даже отлить придется, — откровенно заржал Ямщиков, уже переживший элемент неожиданности под привокзальную выпивку. Похоже, он откровенно наслаждался растерянностью Седого. — Чо теперь — вешаться что ли? Ну, будет нам очередной писец. Не впервой. Даже забавно, что Флик теперь баба. Я так считаю, что это в наказание ему сделали за тот раз, когда нас утопили. В сущности, из-за него утопли, так теперь ему и надо. Ну и что, что руки были связаны, верно?
Обрывочные воспоминания и пьяный угар сделали свое дело, окончательно расстроив Ямщикова. Качаясь возле столика, он пытался показать какую-то фигуру толстыми короткими пальцами у самого лица Седого. Потные пальцы соскальзывали, Ямщиков упорно раздвигал их опять, пытаясь не попасть пятерней в черные очки Седого, сморщившегося от перегара, наполнившего купе.
— Если ты — Факельщик, твою мать, то мог бы ведь хотя бы пальцами возле задницы чиркнуть! Вот так… Нет, так… Как-то так… Сволочь, одно слово, — наконец угомонился Ямщиков, свалившись на полку.
— Да как бы он там… у задницы… чиркал? Зачем же с человека лишнего требовать? — попытался быть объективным Седой, но возражения его прозвучали несколько неуверенно. — Сейчас, наверно, поздно рассуждать, кто чего там мог, да не смог… У меня к тебе огромная просьба, Грег… Не пей ты больше до… этого самого. Скажи, как работать в такой обстановке? Раз уж у нас такой доверительный разговор, то скажу тебе откровенно, что меня меньше всего волнует сейчас, где чего Флик не чиркнул. Пошел он в задницу, особенно после такого! Прошлого не воротишь! Понимаешь, у меня в этом железном ящике совершенно чутье отключилось! Только Флику не говори!
— Да ты чо, Нюхач? А как же мы теперь? Ты совсем, что ли? Почему это? — внезапно трезвея, выпалил Ямщиков.
— Не знаю почему, Грег, не знаю! Возможно, нюхалка у меня к магнитному полю как-то была подсоединена… Может обшивка вагона экранирует… Сам не понимаю! Сюда шел, какие-то тени вокруг чуял… Как в вагон поднялся, в тамбуре еще понял, что ничего не чувствую! — в полном расстройстве схватился за голову Седой, сев напротив Ямщикова. — А как дошло, что Флик-то теперь бабой стал, так вообще ноги подкосились… Вы оба — пьяные… Что делать? Что делать?
— А я-то откуда знаю? Вы же должны… Вы должны были меня привести… куда надо, короче… должны были факелы разжечь… должны были… — в крайнем раздражении зашипел Ямщиков, дыша перегаром.
— Задолжали мы ему по гроб жизни! — взорвался Седой. — А может, мы еще должны тебе воронку вставить и пиво туда сливать? Ну и чмо же ты, Грег!
— Тихо, тихо! Слышишь, Факельщик наш тащится! — замахал руками Ямщиков, — давай пиво, я его проводнику суну! Только не ори! Слово, главное, не скажешь, он сразу орать начинает… Заходи, Флик! Не стесняйся!
Подобревший после пива Петрович до проверки билетов, еще в санитарной зоне открыл туалет, затопил титан, включил электричество. Впрочем, электричество он включил еще до пива, проявляя трогательную заботу об озябшем питомце. Кирюша высунул голову из-под пухового платка и с грустью посмотрел на Петровича. Он телепатически послал ему в голову одну мысль, на которую Петрович тут же возразил: "Если поедем через Москву, значит, Кирилл, так тому и быть. Ну, кто тебя в Москве на ремешки пустит? Что ты, в самом деле? Ты опять будешь священным змеем, обещаю! Только, как тебе и положено, во дворце жить будешь или даже в храме, а не в хрущевке возле переезда, блин! Да не смотри ты так на меня! Мне ведь и самому это ножом по сердцу! Жили мы с тобой, как в раю… Не грусти, дружок, не грусти!"
И все-таки Кирюша грустил. Петрович это чувствовал. Поэтому дал немного ему полакать пива. Вначале Кирюша отпрянул от блюдечка, но, распробовав, выпил поллитра. Он послал Петровичу в голову мысль, что никакой дворец ему на хрен не нужен, что он, бля, еще так всех сделает, что сами они все пойдут на ремешки. Петрович понял, что у Кирюши поднялось настроение, и с новыми силами побежал отбирать у пассажиров дубликаты билетов, попутно предупреждая о скромных, по-человечески понятных требованиях литовских пограничников.
"Посему, — живу Я, говорит Господь Бог, — за то, что ты осквернил святилище Мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, Я умалю тебя и не пожалеет Око Мое, и Я не помилую тебя", — процитировал им Седой, выслушав сбивчивый доклад непрерывно икающей Марины, вкратце повторившей сказанное Ямщикову на вокзале.
— Надо искать Око Бога. Глаз — это Око, — повторил он. — Сейчас всем спать. Эти двое нас будут пасти, но, как и где — понятия не имею. Боюсь, что и вагон именно они нам до самого места устроили. Поэтому дежурить будем каждую ночь. Я сегодня никак не могу. Как говорится, извините, я играл в «Зените». Поэтому начнет Ямщиков. Утром я его сменю.
Седой раскрыл баул, выдал большую мужскую майку Марине. Почему-то они с Ямщиковым совсем не подумали на вокзале ни о тапочках, ни о мыле. Вот идиоты, действительно.
Марина с Ямщиковым вдумчиво нарисовали пентаграммы святой водой, также прихваченной Седым, хотя сам Седой к воде относился с явным пренебрежением, предпочитая мелок. Они выложили гвозди и пергаменты, каждый приготовил себе удобную удавку из набора гитарных струн, выбрал нож. Марина сложила все под подушку под сочувственным взглядом Ямщикова, легла и тут же провалилась в сон.
— Слушай, Грег, — тихо сказал Седой. — Ты с ним поаккуратней как-то. Психика-то теперь у него женская налицо. А ты, сколько пива в него влил на вокзале?