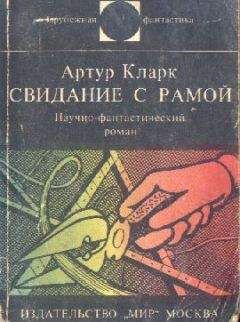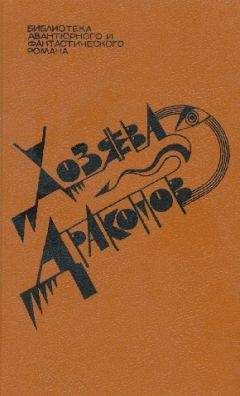Насколько хватало глаз, террасированные склоны «кратера» поднимались вверх и вверх, пока не сливались со сплошной стеной, опоясывающей небо. Стоп — это ложное впечатление, надо отрешиться от представлений, воспитанных Землей и открытым космосом, и выработать для себя новую систему координат…
Он находится вовсе не на дне этого странного вывернутого наизнанку мира, а, напротив, в его самой высокой точке. Любое направление ведет отсюда не вверх, а вниз. Стоит лишь отодвинуться от центральной оси в сторону вогнутой стены, — нет, о ней нельзя больше думать как о стене, — и сила тяжести начнет понемногу возрастать. Добравшись до внутренней поверхности цилиндра, он сможет нормально стоять и ходить выпрямившись, и ноги его будут обращены к звездам, а голова — к центру этого исполинского вращающегося волчка. Сама идея достаточно ясна: еще на заре космонавтики центробежную силу использовали для имитации силы тяжести. Ошеломляет, не укладывается в сознании лишь масштаб применения знакомой идеи. Крупнейшая из космических станций землян, «Синскэт — 5», в диаметре не достигает и двухсот метров. Воистину требуется какое-то время, чтобы приноровиться к размаху, во сто раз большему…
Свернутый трубкой ландшафт, охвативший его со всех сторон, был испещрен пятнами света и тени, которые могли оказаться лесами, полями, замерзшими озерами и городами; значительность расстояния и быстрота, с которой угасала ракета, делали опознание практически невозможным. Узкие линии — не то дороги, не то каналы или выпрямленные реки — складывались в едва различимую, но геометрически правильную сеть, а дальше, на самой границе видимости, цилиндр опоясывала какая-то более темная полоса. Она очерчивала полный круг, охватывала кольцом интерьер этого мира, и Нортон вдруг припомнил миф об Океане, который, по верованиям древних, омывал диск Земли.
Быть может, здесь — наяву — существовало еще более странное море, не кольцевое, а цилиндрическое? Ведало ли оно, прежде чем застыть в, межзвездной ночи, буруны, приливы, течения, волны? Населяли ли его рыбы?
Ракета догорела и погасла, миг откровения миновал. Но Нортон понимал: эта картина не изгладится теперь из его памяти до гробовой доски. И история никогда не сможет оспорить тот факт, что ему выпала честь увидеть творения иной цивилизации.
— Мы запустили пять осветительных ракет, настроив их часовые механизмы так, чтобы надежно перекрыть фотосъемкой всю длину цилиндра. Все главные ориентиры нанесены на карты, и хотя их очень трудно отождествить с чем-то знакомым, тем не менее мы дали им условные имена.
Внутренняя полость имеет пятьдесят километров в длину и шестнадцать в ширину. Оба ее конца — как бы гигантские чаши довольно сложной конструкции. Ту из них, где мы сейчас находимся, мы назвали Северным полушарием; здесь, у самой оси, расположена наша первая база.
От центральной площадки под углом 120 градусов один к другому расходятся три трапа почти километровой длины. Все они заканчиваются на круговой террасе — отсюда она представляется обегающим чашу кольцом. А от кольца вниз, продолжая эти трапы, убегают три исполинские лестницы, которые в конце концов достигают равнины. Представьте себе зонтик, у которого всего три спицы, равно удаленные друг от друга, — это даст вам довольно точное представление о том, как выглядит Рама с нашей стороны.
Каждая спица — лестница, вблизи оси очень крутая, а затем все более полого сливающаяся с равниной внизу. Надо думать, они предназначены исключительно для аварийных ситуаций, ведь нельзя всерьез полагать, что рамане — называйте их так или как-нибудь иначе — не предусмотрели других, более удобных способов добираться до оси своего мира.
Южное полушарие устроено совершенно по-другому: там нет ни лестниц, ни кратера в центре. Вместо кратера там высится остроконечный пик высотою в несколько километров; он расположен строго по оси и окружен шестью пиками поменьше. Конструкция в целом выглядит очень странно, и мы даже отдаленно не догадываемся, какой цели она служит.
Основную пятидесятикилометровую часть цилиндра между двумя чашами мы назвали Центральной равниной. Не считайте, что мы сошли с ума, именуя «равниной» нечто столь отчетливо вогнутое, — мы уверены, что это вполне оправданно. Как только мы спустимся на нее, она покажется нам плоской — муравью, который забрался в бутылку, ее внутренняя поверхность тоже должна представляться плоскостью…
Самое удивительное на Центральной равнине — это темная лента десятки километров в ширину, обегающая цилиндр вокруг и разделяющая его пополам. Лента похожа на ледяную, и мы окрестили ее Цилиндрическим морем. Посреди моря расположен большой остров овальной формы, размером десять километров на три, сплошь покрытый какими-то высокими сооружениями. Поскольку он напомнил нам виды старого Манхэттена, мы назвали его Нью-Йорком. Правда, я не склонен думать, что это действительно город: скорее он похож на какую-то колоссальную фабрику или, скажем, на химический завод.
Но на равнине есть и город или, во всяком случае, поселки. Их по крайней мере шесть; если бы их строили для людей, то каждый мог бы вместить примерно пятьдесят тысяч человек. Мы назвали их Рим, Париж, Москва, Лондон, Пекин и Токио. Между собой они связаны дорогами и еще каким-то подобием рельсовой системы.
Материала, достойного изучения, в этом застывшем мире хватило бы на столетия. Четыре тысячи квадратных километров и всего две-три недели на то, чтобы их обследовать. Не знаю, найдем ли мы ответ хотя бы на два вопроса, которые мучают меня с той самой секунды, когда мы оказались здесь внутри: кто они были и что с ними случилось?
Запись окончилась. На Земле и на Луне члены Комитета по проблемам Рамы перевели дух и принялись с новой энергией изучать разложенные на столах карты и фотографии. Они предавались этому занятию уже не первый час, однако голос капитана Нортона будто высветил в снимках что-то, добавил им глубину. Пусть ракеты разорвали вековечную ночь Рамы совсем ненадолго, но капитан видел этот необитаемый вывернутый мир собственными глазами. И именно он, Нортон, поведет в этот мир исследователей и будет его изучать…
— Доктор Перера, вы, кажется, хотели что-то сказать?..
Доктор Боуз подумал, не следовало ли в первую очередь предоставить слово профессору Дэвидсону — старшему из ученых и единственному астроному среди присутствующих. Но профессор, видимо, еще не вполне оправился от шока, ему было явно не по себе. Всю жизнь он взирал на Вселенную, как на арену борьбы титанических, но безличных сил гравитации, магнитных и радиационных полей; ему никогда не верилось, что жизнь играет сколько-нибудь существенную роль в мироздании, и он рассматривал ее проявления на Земле, на Марсе и на Юпитере как нечаянное отступление от общих правил.