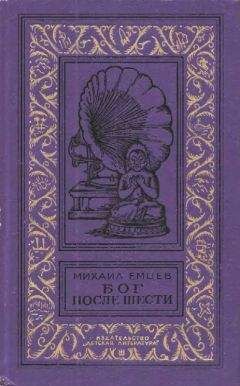И Виктор тут же стал ее уверять, что пивную пену обтирают рукой, а еще лучше — рукавом.
— Ладно, — отмахнулась Таня. — Слушай, нужно ехать. Познакомиться надо с ребятами.
— С какими ребятами?
— Ну, с нашей новогодней компанией. Посмотришь, да и договориться надо, как и что.
— Знакомьтесь, — сказала Таня, и Виктор ощутил в своей руке жесткую, узкую руку.
Стоявший перед ним парень был высок и жилист. Замшевая потертая куртка на сутулых плечах. Светлые прямые локоны. Бородка, усы. И взгляд темных глаз такой же, как рука, — холодный, жесткий, щупающий.
“Хиппи или не хиппи? — подумал Виктор. — Похоже, хиппарик. Но глядит волком. А те все маменькины сыночки. Нет, не хиппи”.
— Худо, — сказал парень и улыбнулся.
“Нет, все-таки хиппи, — решил Виктор. — Улыбается теленком”. И небрежно спросил:
— Это фамилия?
— Прозвище. В нашей компании имена не в ходу, — объяснил Худо. — Что имя? Ложь в нем изначальна. Родители три минуты головы ломали. В лучшем случае полистали справочник имен, а человек должен таскаться с выдуманным словом всю жизнь, не имея к нему никакого отношения. Прозвище точнее, Вон у китайцев в прошлом человек получал имя только в конце жизни, когда личность определялась.
— Все очень просто, — быстренько объяснила Таня. — Олег был художником, его сократили, и получился Худо.
— Угу, — сказал Виктор, и они стали рассаживаться в “Москвиче”.
Машина задрожала, накренилась, завибрировала. “Москвич” был старенький, довоенных лет, многократно перекрашенный и ремонтированный. “Латанка”, — весело ругнул машину Виктор, утверждаясь на заднем сиденье.
Ах, не верьте вы, не верьте скучным рационалистам! Есть на свете флюиды, исходящие от одной личности и воспринимаемые другой. Люди — всего лишь не оформившиеся до конца приемники, не понимающие себя передатчики. Как передатчики что-то такое мы излучаем, как приемники — получаем, в каком-то неосознанном движении участвуем… Почудилось Виктору, будто с новым знакомством, с этим художником, тощим и улыбчивым, придет в его жизнь новизна и заинтересованность. Как-то иначе все устроится, чем говорят ему близкие — мать, отец, сестра. Может быть, не лучше, а иначе. Представив себе эту возможность, Виктор сразу ощутил симпатию к Худо, но тут же ее подавил, потому что какой парень позволит себе так, сразу, открыться.
А Худо между тем путался в определениях собственных ощущений. Он давно привык называть предельно откровенными словами возникавшие в нем чувства. Многолетняя привычка не замедлила сказаться и при встрече с Виктором. “Этот парень здоров, прост и ясен, как солнечный день, — сказал себе бывший художник. — Он очевиден, как ствол винтовки, и понятен, как команда “стой!” В нашей компании, в кругу моих больных цветов, среди неврастеников, он будет выглядеть неожиданно, неуклюже, нелепо. Его можно отвергнуть, а можно и оставить. Но почему мне приятно смотреть на его спокойное лицо, немигающий взгляд, ленивые движения? Вероятно, по контрасту: мне уже надоели извивающиеся невротики. Душа жаждет перемен. Тем более что вроде бы он не такой уж железобетонный. Вот он хмурится, и печаль проскальзывает из глаз и собирается у переносицы. А это уже признак чуткой души”.
Это наблюдение понравилось Худо, и он в своих размышлениях тотчас позабыл о Викторе.
“Печаль стекалась к переносице и поднимала брови вверх, это уже кое-что. Здесь есть движение и ритм. — Худо принялся развивать образ. — Два глаза — два лесных озера. По вечерам, под лунным светом, из озер всплывают серые тени — это печаль. Тени бесшумны, плывут, скользят и встречаются у вершин темных холмов, поросших старым лесом. Это брови. Они подвижные, изгибаются, ломаются. Лучше всего на это смотреть с самолета — тогда видно грустное лицо земли. Очень интересно. Молодой летчик, допустим, из тех, что возит почту и летает низко, видит скорбную мину природы: лес, два тоскующих глаза — озера, и трагический наклон бровей — холмов. Лицо это, конечно, женское, девичье. О чем грустит земля? Летчик сначала только смотрит, интересуется, затем начинаются контакты, разговоры, короткие тихие беседы с лицом внизу. А затем, затем… любовь? Может быть, и первый поцелуй — летчик разбивается. Гибнет летчик от любви к грустящей земле”.
Худо удовлетворенно передохнул — образ был закончен. Композиция завершена.
— Олежка, — тихо тронула его за плечо Таня, — все уже поехали, одни мы стоим.
Худо вздрогнул и нажал педаль.
— Поначалу навестим Маримонду Египетскую, — сказал Худо, а Танька хихикнула.
Ей было забавно и очень интересно. Все получалось замечательно. Олег, на удивление, был сегодня спокоен. И Витя не ершился, сидел на заднем сиденье и помалкивал, чего-то ждал. Похоже было, что Худо его заинтересовал. Вроде бы они пришлись друг другу по душе.
— Из магазина “Восток” вышла решительная девушка Яна, — сказала Таня. — Ты что, договорился с ней?
— Да, — откликнулся Худо, — она обещала мне кое-что принести.
Яна села рядом с Виктором и сказала:
— Угощайтесь. Еще теплый лаваш, рвите в клочья.
Она немного картавила, у нее были ничем не покрытые густые черные волосы. Соколиные брови девушки срастались на переносье. Яна посмотрела серьезными темными глазами на Виктора:
— Меня кличут Яной. Вы это, надеюсь, уже знаете?
— А меня Виктором, и уверен, вам это неизвестно.
— Нет, почему? Она, — Яна показала на Таню, — все о вас рассказала.
— Это невозможно, — тотчас откликнулся Худо, — ты загибаешь, Янка.
— Почему?
— Все знать о человеке невозможно, тем более — рассказать. Сам человек не знает о себе всего, откуда ж Таньке знать все о нем?
— Не придирайся. Ты прекрасно понимаешь, что я имела в виду.
— Я-то понимаю, но понимаешь ли ты?
Слова, словечки вылетали у них, будто лузга семечек. “Слово туда, слово сюда, а все на месте”, — подумал Виктор.
Худо спросил:
— Привезла?
— Привезла, — ответила Яна, доставая из сумки книжечку в старинном тисненом переплете и передавая ее Худо.
Тот живо схватил томик.
— Что это? — спросил Виктор. Его всегда интересовали старые книги.
— Это? — Яна присматривалась к Виктору, обдумывая ответ. В машине мгновенно установилось странное напряженное молчание, будто все ждали чего-то.
— Старинные тексты, — сказала Яна. — Все как один взяты из первоисточников. А вообще — опыт древнейших мудрецов, истолкованный современными учеными. Короче, это Евангелие современного интеллектуала. Он их читает на ночь и поутру. В поездках и на покое. Он молится по нему, пересекая улицы, и твердит его заветы у каждой бензоколонки.