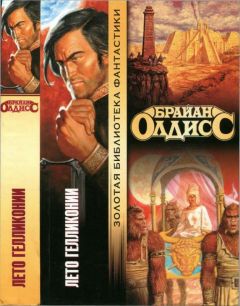Можно было прочитать несколько революционных лозунгов. На самом верху была вырезана очень ясная и чистая молитва, вознесенная богу по имени Акха. Во многих местах старые письмена были затерты более поздними, напоминая о том, как одно поколение сменяет другое. Некоторые из ранних надписей, теперь неясные, были сделаны изящным легким почерком. Некоторые были на языке вязи, давно уже исчезнувшем из этого мира.
В одном месте, где шрифт почти стерся, Лутерин прочитал историю самого Колеса, основные детали. То были цифры, имеющие власть над всем остальным, что было выбито на этой стене.
Колесо более всего напоминало кольцо, вращающееся вокруг огромного центрального гранитного пальца.
Высота Колеса была около 6,6 метров, или двенадцать раз по 55 (северная широта точки нахождения самого Колеса). Основываясь на этом, можно было рассчитать толщину Колеса — 13,19 метров (1319 год заката Фреира, или год Мирквира, на 55 градусе северной широты, считая от первого года апоастра). Диаметр Колеса составлял 1825 метров, число малых лет в одном большом году. А еще 1825 камер было во внешнем ободе Колеса.
Сложный вырезанный на камне чертеж, почти незатронутый другими рисунками, соблюдал примерно те же пропорции. Чертеж представлял собой пропорционально уменьшенное встроенное в скалу Колесо. Над Колесом имелась пещера, достаточно большая для того, чтобы дать монахам возможность ходить по верхней части Колеса и опускать находящимся внизу заключенным пищу. Войти в пещеру можно было только через монастырь Бамбек, выстроенный на склоне горы Харнабхар, прямо над вмурованным Колесом.
Тот, кто вырезал на граните этот чертеж, наверняка был точно осведомлен о строении Колеса. Река, протекающая под Колесом, способствующая его вращению, тоже была изображена. Прочие, схематические, линии соединяли самый центр Колеса с Фреиром и Беталиксом, а также с десятью зодиакальными созвездиями — Летучей мышью, Вутрой-буйволом, Валуном, Ночным червем, Золотым кораблем и другими.
— Абро Хакмо Астаб! — выругался Лутерин, впервые в жизни произнеся запретное старинное ругательство. Эти предполагаемые связи вызывали в нем глубокое отвращение. Это была ложь. Никаких связей не существовало. Только он, замурованный в камне, хуже духа. Он бросился на койку.
И снова прошептал ругательство. Как одному из проклятых, ему это было позволено.
Тускнеет зрение, но обостряется слух. Лутерин догадался: когда Колесо неподвижно, его обитатели спят. Лежа на койке, он пустым взглядом рассматривал стены каменной коробки, в которой теперь обитал.
Вода для питья текла ручейком из ключа в изножье его койки. Тихий плеск разносился со звонкой равномерностью, словно тиканье часов.
Более глухим был плеск воды под каменным полом, где протекала река. Он походил на бормотанье пьяного, тяжелое, ленивое. Эти звуки усыпляли Лутерина.
Другие звуки воды, плеск и стук капель, доносились издалека, сообщая, что снаружи имеется мир природы, приволье и охота. Он представлял себя на воле, в каспиарновом лесу. Но эти воображаемые картины невыносимы. Снова и снова в его воображении всплывало лицо отца, искаженное мучительной болью. Ручьи, водопады, потоки — все это исчезало из сознания Лутерина, сменяясь ручьем крови.
Оцепенение отпустило его только однажды, когда, развязав дневную порцию еды, он обнаружил внутри записку.
Он отнес клочок бумаги к голубому огоньку и впился в записку глазами. Кто-то писал очень маленькими буквами. «Наверху все хорошо. Люблю».
Не было подписи, не было даже инициалов. От матери? От Торес Лахл? От Инсил? От друга?
Но, пусть и анонимная, записка подбодрила его. Снаружи кто-то думал о нем, беспокоился и — пусть даже таким скудным образом — мог общаться с ним.
В этот день, как только грянули трубы монахов, он вскочил с места и ухватился за цепи, свисающие из ниши в наружной стене. Упершись ногами в выступ стены, он потянул за цепь. И камера сдвинулась с места — Колесо начало вращаться.
Он снова потянул, и на этот раз движение далось чуть легче. Его камера продвинулась на несколько сантиметров.
— Тяните, вы, байваки! — закричал он. Ободряющие звуки труб раздавались каждые двенадцать с половиной часов, потом все стихало на такой же промежуток времени. К концу трудового дня Лутерин продвигался ни много ни мало на 119 сантиметров, почти на половину длины своей камеры. Огонек рожка, освещавший его каземат, теперь был почти рядом с разделительной стеной. К концу следующего рабочего дня огонек угаснет — кажется, в следующей камере, — но на смену ему появится новый огонек.
Массу, равную 1284551,137 тонн, можно сдвинуть с места: таков был груз, который святость водрузила на плечи узников Колеса. Казалось, это был лишь физический труд. Но день уходил за днем, и Лутерин все больше относил эту задачу к разряду духовных; и чем очевиднее это становилось, тем более крепли связи, идущие от его сердца и Колеса к Фреиру, и Беталиксу, и ко всем созвездиям. Из понимания рождалась уверенность, что Колесо несет в себе не только физическое наказание, но и — как свидетельствовала легенда — зарождение мудрости.
— Тяните! — кричал он опять и опять. — Тяните, святые и грешники!
С этой самой минуты он превратился в фанатика, мигом вскакивающего с койки и принимающегося за работу, едва раздастся призыв долгожданных труб. Он посылал проклятия тем, кто (в его воображении) поднимался со своего места не так споро, как он. Он проклинал тех, кто вообще не трудился у своих цепей, как трудился он сам. Он не понимал, почему время, отведенное для работы, так коротко.
Ночью — если только за пределами Колеса существовала ночь — Лутерин ложился спать и видел во сне медленно, со скрипом и хрустом вращающееся Колесо, подобно жерновам размалывающее жизнь людей в прах. Колесо не останавливалось ни на день, с тех пор как великие Архитекторы воздвигли его.
Вращение Колеса таило в себе горькую иронию. Узники, сидящие, подобно личинкам, каждый в своей камере по окружности Колеса, вынужденно влеклись сквозь гранитное сердце скалы. И лишь отдавшись этому жестокому путешествию, рьяно в нем участвуя, можно было надеяться выйти наружу. Только путем участия в этом путешествии можно было организовать вращение Колеса, которое означало свободу. Только проникая в утробу горы, возможно было выйти наружу свободным человеком.
— Тяните, тяните! — кричал Лутерин, напрягая все силы. Он думал о 1824 других заключенных, сидящих по своим камерам и вынужденных тянуть за свои цепи для того, чтобы выйти на волю.
Он ничего не знал о том, какие беды бушуют сейчас во внешнем мире. И о том, цепи каких событий положил начало. Он ничего не знал ни о тех, кто остался жить, ни о тех, кто умер. Мало-помалу, по мере того как теннер уходил за теннером, его разум наполнялся ненавистью к другим заключенным — некоторые из них были больны, а другие, может быть, умерли, — которые не могли тянуть Колесо в полную силу. Ему казалось, что он один тащит тяжесть Колеса на своих плечах, рвет сухожилия, что он один катит Колесо сквозь гранитную толщу к свету.