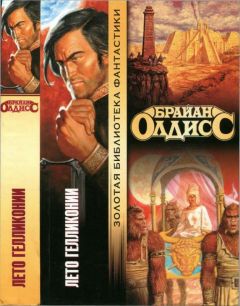Он ничего не знал о том, какие беды бушуют сейчас во внешнем мире. И о том, цепи каких событий положил начало. Он ничего не знал ни о тех, кто остался жить, ни о тех, кто умер. Мало-помалу, по мере того как теннер уходил за теннером, его разум наполнялся ненавистью к другим заключенным — некоторые из них были больны, а другие, может быть, умерли, — которые не могли тянуть Колесо в полную силу. Ему казалось, что он один тащит тяжесть Колеса на своих плечах, рвет сухожилия, что он один катит Колесо сквозь гранитную толщу к свету.
Прошло положенное количество теннеров, и миновал малый год. Изменились только царапины на наружной гранитной стене. В остальном все осталось прежним.
Однообразие завладело его еще незрелым рассудком. Теперь он уже не всегда вскакивал с места, когда над головой начинали греметь трубы священников, зов которых заглушала толща гранитного свода.
Постепенно мысли об отце отступили на задний план. Терзаясь чувством вины, он пришел к следующему убеждению: отец сам страдал от чувства неискупаемой вины и потому сам вложил в руку своего сына нож, а после вышел с ним на улицу, чтобы там встретить смерть. Это лицо с вечно лоснящейся кожей было маской подлинного страдания.
Довольно много времени прошло, пока он наконец решился посетить отца в пауке. Но эта мысль долго зрела в его мозгу, не давая покоя. На второй год своего одиночного заключения Лутерин улегся на койку и закрыл глаза. Он мало что знал о том, что теперь следует делать. Но постепенно состояние паука овладело им и он опустился вниз, во тьму более глубокую, чем сердце горы.
Никогда прежде ему не случалось нисходить в печальный мир духов, где все некогда живые, а теперь расставшиеся с жизнью, медленно тонули в жуткой тишине небытия. От потери ориентации у него закружилась голова. Поначалу он не двигался вниз со всеми; потом никак не мог остановить нисходящее движение. Он медленно погружался вниз, к искрам, поблескивающим, словно отражение звезд в сточной канаве, собранным в статичные созвездия, неподвижность которых была возможна только в мире мертвых.
Барка Лутериновой души продвигалась медленно, но непрерывно, скользя невидящим взглядом по рядам останков, просачивающихся вниз, к сердцу Всеобщей Прародительницы. При ближайшем рассмотрении все духи представляли собой нечто вроде опаленной домашней птицы, подвешенной для просушки. Сквозь грудные клетки, сквозь прозрачные животы просвечивали фрагменты окружающего, частицы, медленно кружащиеся, словно мухи в бутылке. В головах, лишь частично сохранивших форму, в пустых глазницах мигали крохотные огоньки. Повинуясь указанию, какого не дал бы ни один компас, душа Лутерина просочилась к духу Лобанстера Шокерандита.
— Отец мой, тебе достаточно сказать одно слово, и я уйду, я, который любил тебя больше всех и причинил тебе величайший вред.
— Лутерин, Лутерин, я ждал здесь, медленно погружаясь, продвигаясь к полному распаду и исчезновению, в единственной надежде увидеться с тобой. Кто в целом мире может более порадовать меня, чем ты? Как ты чувствуешь себя гостем в мире мертвых, дитя мое?
Последние слова, обратившись в облако поблескивающих частиц, растаяли в вечной тьме.
— Отец, не спрашивай обо мне, говори о себе. Моя душа никогда не освободится от преступления, которое я совершил. Мой ужасный проступок, страшный миг во дворе нашего поместья всегда будет преследовать меня.
— Ты должен простить себя, как я простил тебя, когда оказался, наконец, здесь. Мы принадлежали к разным поколениям, и мой разум не мог, да и до сих пор не может, понять тебя, тем более что пока ты не способен окинуть взглядом столь продолжительную историю человеческих дел, какой был свидетелем я. Но ты подчиняешься принципам, как и я. Это делает тебе честь.
— Однако я никогда не думал о том, что способен убить тебя, возлюбленный отец, — только олигарха.
— Олигарх бессмертен. На смену одному приходит другой.
Дух говорил, и из его рта, оттуда, где некогда помещались губы и язык, вылетали облачка тускло-блестящих частиц. Некоторое время частицы висели в небытии, потом медленно исчезали, как снежинки, тающие на черной угольной пыли.
Прах Лобанстера описал сыну, отчего вышло так, что он согласился возложить на себя бремя власти олигарха: он верил, что ценности Сиборнала достойны того, чтобы их сохранить. Отец говорил об этих ценностях, но много раз его рассуждения уходили в сторону.
Он рассказал о том, как держал свое высокое государственное положение в тайне от семьи. Долгие охотничьи вылазки были одной из уловок. В пустынном месте в горах, далеко от людских жилищ, у отца имелось тайное убежище. Там он до времени мог держать своих охотничьих собак, пока сам с небольшой охраной отправлялся в Аскитош. По дороге домой он забирал свору. Однажды вышло так, что старший сын Лобанстера обнаружил тайное укрытие для гончих и связал одно с другим. Но, предпочитая сохранить свое открытие в тайне, Фавин решил броситься со скалы.
— Ты легко можешь представить, какое горе овладело мной, сын. Лучше уж оказаться здесь, в обсидиане, в покое и безопасности, чем сносить такие жестокие удары судьбы, истязающие и плоть, и дух.
Эти слова тронули, но не убедили душу сына.
— Почему ты ничего не сказал мне, отец?
— Я полагал, что, когда придет время, ты сам обо всем догадаешься. Чуму необходимо было остановить, а людям следовало лучше понять, что означает для них повиновение. В противном случае под ударами долгих вековых морозов цивилизация попросту рухнет. Только укрепляясь этой мыслью, я мог неколебимо творить то, что творил.
— Уважаемый отец, как ты можешь говорить от имени всей цивилизации, когда на твоих руках кровь тысяч людей.
— Все эти люди здесь, со мной, сынок, солдаты армии Аспераманки. Представь себе, никто из них ни единым словом не выразил мне ненависти или обиды! Даже твой брат, который тоже здесь.
Душа произвела действие, соответствующее рыданиям.
— После смерти все представляется иначе и имеет другую ценность. Прежних чувств не остается, только благожелательность.
— А война, которую ты развязал против соседнего Брибахра, древнего города Раттагона, который был разрушен? Разве это не деяние чистой жестокости?
— Жестокость, но в пределах необходимого. Для меня самым коротким и быстрым путем в далекий Аскитош было повернуть на восток от Нунаата и быстро спуститься по брибахрской реке Джердалл — по реке, по которой пускаться в плавание гораздо безопаснее, чем по своенравной Венджи. Так я мог добраться до побережья никем не узнанный, в то время как в Ривенике меня наверняка бы узнали. Ты понимаешь, сын мой? Я рассказываю лишь для того, чтобы ты успокоился.