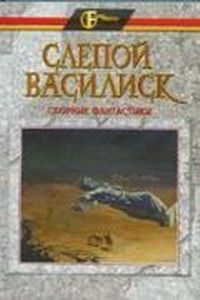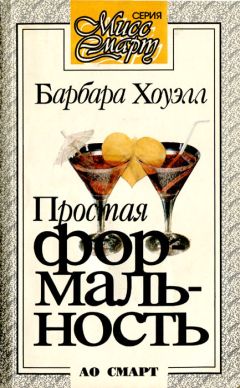Бывало, что и по две, и по три сотни покойников поднимали в первые дни Великого поста...
Пересекая Никитскую улицу, заметили стоящего у открытой решетки человека. Это был знакомый сторож по прозванию Пятка.
- А я уж вас заждался, - сказал он, ковыляя навстречу дровням. - Вон в переулке два тела лежат, снежком уж припорошены. Одно совсем недавно подкинули! Я только отвернулся - а оно уже и тут! Заберите, сделайте милость!
Дровни подъехали к переулку. Мирон заранее откинул одну из рогож, обнажив сложенных, как бревна, и лицами вниз, чтобы самим не пугаться, мертвецов. Тем более, что иные лица были уже объедены бродячими псами...
Стенька и Елизарий пошли туда, куда показал Пятка.
Тела лежали одно ничком, другое - навзничь. Если и была кровь - то замерзла и оказалась скрыта под снегом.
- Ступай сюда, Исачка! - позвал Стенька. - Сил моих нет - это уж который за ночь-то?..
- Ничего, Степа, притихнет Москва-то - отдохнем, - пообещал Никон.
- На том свете мы отдохнем, - буркнул Стенька. Хотя тут он был неправ большой суеты в первые дни поста не намечалось. Народ после масленичного буйства приходят в себя, кается, приличие соблюдает, в драки не лезет. И еще утешение - Тимофей Озорной тайно дал знать Деревнину, чтобы более ни за какими бесовскими грамотами не гонялся. То ли сыскал ее Приказ тайных дел, то ли сам собой этот розыск заглох - поди разбери...
Стенька вспомнил о деревянной книжице - и в памяти вдруг возникло женское лицо.
- Не твоего ума дело, - сказала чернобровая, не первой молодости, но все еще красивая женка. - Та грамота уже сколько-то людей погубила и еще не одного погубит, а потом и сама на долгие годы пропадет.
Это была та ворожея, которая подозрительно много поняла про Стенькины с Натальей горести. А звали ее... звали ее... Устинья!
Лицо не исчезало, ворожея усмехалась, да как-то недобро.
- Те, кого она губит, сами своей погибели ищут! - сказала она и тогда лишь исчезла. Стенька встряхнулся.
Пока он заново слышал однажды прозвучавшие слова и смотрел в лицо Устинье, пьющий человек Исачка, воротной сторож Пятка и Никон Светешников уже обменялись какими-то мнениями и, как показалось Стеньке, ни с того ни с сего вспомнили о недавних кулачных боях.
- И я сразу сказал, что Трещала против Одинца не выдюжит, похвастался сторож. - Вот как стали выкликать охотников для охотницкого боя, так все притихли. Знали, должно быть, что будет... Государь сидит, ждет. И вот выходит Одинец, в ноги государю кланяется! Дозволь, говорит, батюшка, тебя потешить! Один, говорит, у меня на Москве супротивник молодой Трещала. И ты, батюшка, вели ему против меня стать! Все ахнули отродясь так на льду никто не говаривал! Ну, Трещале деваться некуда вышел... Вот как было! А ты мне - сговаривались, сговаривались! Не хотел Трещала с ним биться, а пришлось!
- А что Трещала? - спросил пьющий человек Исачка.
- А лежит пластом, то ли будет жив, то ли нет, одному Богу ведомо. Рта открыть не может, кость ему Одинец челюстную сломал.
- Мы для того тебя взяли, чтобы ты без дела прохлаждался? - сердито спросил Стенька. - Давай, трудись, зарабатывай себе на опохмелку!
Исачка взял заступ и стал вырубать примерзшее тело.
- Господь, видать, покарал... - пробормотал Никон, глядя в лицо покойнику. - Ведь и годами не стар! Надул кого-то, вот с ним и посчитались...
- А ты его знаешь?
- Как не знать. Он всегда вокруг бойцов отирался, многие тайны знал да себе на беду взялся на тех делах наживаться. Перфишка он Рудаков.
Стенька разинул рот.
Нашлась-таки пропажа!
Но очень скоро иная мысль осенила его.
- Родня-то у того Рудакова есть? - быстро спросил он.
- А я почем знаю! - тут Никон сообразил, что у Стеньки на уме. - Но сдается, что он на Москве человек пришлый.
Собственно, так оно и было. И отсутствие родни было для приказных очень кстати.
Коли покойник безымянный и безвестный, то полежит в избе недели две, а потом свезут его в яму и скинут на кучу таких же горемык, потом, уже в мае, по всем по ним скопом отслужат панихиду да и зароют. А коли теперь объявишь, что покойник - ведомый, то, чего доброго, розыск начнут. При том количестве мертвых тел, с какими придется разбираться в ближайшие дни, лишнее уж вовсе ни к чему.
Перфилию же Рудакову все давно было безразлично. Лишенный своей волчьей шубы, своих неправедных доходов, но и своих долгов также, лежал он и не мог возразить ни Стеньке, ни приставу Светешникову. А кабы мог - то и сказал бы: хотя по всем приметам должен был его пристукнуть кто-то из бившихся при его посредничестве об заклад и жестоко им обманутый, не мужская рука уложила молодца...
На малую минутку дала волю своей бабьей силе Авдотьица - да и убежала, не оборачиваясь, уводя с собой любимого. А где-то в вышине заплакал Перфишкин ангел-хранитель да и сказал:
- Сколько раз я тебя, дурака, выручал! А тут не могу. Девкино счастье против твоей удачи сильнее выходит! Прости...
Рига 2001