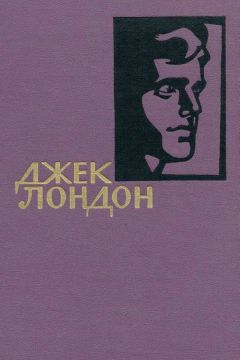– Ты сегодня рано! – восторженно воскликнула мать, поправляя широкую бретельку лифчика. – Я еще только тесто замесила… Для кулебяки!
– Кулебяка? Звучит аппетитно, – без выражения произнес Лёня. На то, чтобы улыбнуться, его уже не хватило.
Только оказавшись дома он понял: комар Победоносцев и вампир Викентий все-таки умудрились выпить из него свои три литра крови.
– Может, тебе пока компотику? Из сухофруктов? Для тебя специально сварила. С черносливом!
– Что-то не хочется… Мне бы помыться…
– День тяжелый был? – участливо поинтересовалась мать. Ее маленькие глаза жадно горели. Вот сейчас «сына» устроится на табуретке, поместив жирный локоть на обеденном столе, и выложит ей всё-всё, с подробностями, облегчит душу. А она, его много видевшая мама, скруглит услышанное метким комментарием, исполненным подержанной, но не потерявшей своего алмазного блеска жизненной мудростью: «Это жизнь, мой милый…» или «Не бери в голову, терпенье и труд все перетрут!»
– Угу.
Он стоял под пузырящимися струями душа, глядя в пол между ногами. Кошмарные големы грядущего – доктор Аблов, контрразведчица Устина и харизматичный охотник Хрущ – медленно стекали по его груди, животу, ногам, пробирались в сливное отверстие и удало неслись вниз по канализационным трубам…
Прошло полчаса. Лёня полулежал в кресле, задвинутом в каре из цветочных горшков.
Из воображаемых динамиков лился симфонической Ниагарой воображаемый Стравинский. Мавки неспешно водили вокруг своего изможденного повелителя текучий хоровод, на поддельном сценическом ветру развевались их длинные кисейные шарфы… Вот сейчас они обвыкнутся, осмелеют и такие пойдут тайны, такие эманации!
– Лёня… Лёнечка! – послышалось издалека, из другого мира, где подгорала кулебяка и с низким гулом носились по шахтам лифты.
С болезненным отвращением Лёня повернул голову к двери.
– Сынок мой золотой! – елейным голоском пела мать.
– Да, мама, что? – он всё же заставил себя встать и открыть дверь.
– Ужин готов!
– …
– Кулебяка вышла мировая! С поросеночком! Как ты любишь! Давай-ка покушаем…
И тут Лёня понял, что никакая кулебяка, никакие блага мира не заставят его сейчас выйти из комнаты, наполненной смыслом, красотой и любовью, в мир, где воды могучей сибирской реки под неумелый писк певицы Максим несут вагон с чехами, а на вершинах таежных сосен стоят, как городовые, «птицы Солнца». И даже под дулом пистолета он не пойдет ужинать, ни за что не отдаст последние золотые крупицы своей жизненной энергии матери, которая, конечно, будет хотеть разговора, шутки, семейного тепла. Пусть лучше он останется голодным, да пусть он хоть сдохнет от голода, но, уподобляясь хитрому туземцу-эвенку, что обменивает ценную шкурку на ящик одеколона, «чиколонки», обменяет их, эти ценные крупицы, на нечто равноценное – на чистое дыхание чуда и тихий хохот мавок.
– Мам, извини, но я не хочу… Совсем не хочу есть… Прости меня, – быстро сказал Лёня, затворяя дверь.
С каким-то новым для себя равнодушием он воспринял мамины задверные рыданья. «Будь они прокляты, эти твои цветы!» – кричала Нелли Матвеевна, по-слоновьи топая ногой.
Чтобы не слышать, Лёня включил «Русское радио».
В тот вечер дверь Лёне никто не отпер, хотя он звонил условленным звоном – три коротких, три длинных. Пришлось искать ключ на самом дне битком набитого портфеля.
«Может она в ванной? Звонка не услышала?» – гадал Лёня, пока ключ хрустел в замочной скважине, обретшей некое злокачественное подобие девственности.
«Может, с кем-то из подружек несчастье? Например, с Анастасией Львовной, у нее вроде бы сердце?»
Но какая-то потаенная личность внутри Лёниной личности знала – не сердце тут, не ванная, что-то другое. Недоброе.
В гостиной горел торшер, освещая притихшую мебель маслянистым желтым светом. Пакета с мусором – ежевечерне мать выставляла его у двери, чтобы утром по пути на работу Лёня донес его до контейнера – тоже на месте не обнаружилось. Материны тапочки образовывали заунывную букву "у" возле подножья шкафа-купе. И ни одного запаха – ни жарочного, ни стирочного.
«Но куда она могла подеваться в такое время?» Лёня набрал номер мобильного Нелли Матвеевны, но абонент был недосягаем, как гностические небесные сферы.
Гнетущее чувство нарастало.
Дверь за Лёниной недоуменной спиной громко хлопнула – сквозняк. Но откуда взяться сквозняку, когда окна у них всегда закрыты? В своей комнате он никогда окно не открывал – боялся простудить мавок, пользовался кондиционером. В комнате матери давным-давно заклинило механизм. А балконное окно в гостиной было как всегда плотно запечатано – это Лёня приметил еще с порога.
Сердце запрыгало, в душе что-то текучее нагрелось, заклокотало – так бывало с Лёней в его густых, воронкой вертящихся ночных кошмарах.
Не снимая ботинок, он бросился в свою святая святых – там, там, чувствовал он.
Его взору открылось страшное.
Окно оскалилось в промозглый февральский вечер.
Все восемь постаментов были пусты.
Самодельные ширмы (каркас из реек, марля), которыми он затенял мавок от жгучих ласк Ярилы, страдательно растопыривали свои переломанные конечности.
Длинные белые люминесцентные лампы – они шли по периметру комнаты – теперь устилали пол хрустким крошевом мутных изогнутых осколков.
В центре стоял табурет, принесенный из кухни. К нему была приставлена швабра.
«На стул становилась. А шваброй шуровала…» – восстановил состав преступления Лёня, сомнамбулически продвигаясь к окну.
Он не мог, не хотел поверить в худшее. И мозг выдавал спасительные версии одну за другой.
«Она забрала их, чтобы продать. Понесла продавать. А чего, любой магазин возьмет такие…»
«Наверняка решила отнести в свою долбаную поликлинику. „Девочки, поглядите, у меня для вас сюрприз! Мой сыночек их сам вырастил!“»
«Она перенесла мавок в свою комнату. Просто взяла – и перенесла…»
Он по пояс высунулся в трубящую автомобильными клаксонами ночь и посмотрел вниз.
Его окна выходили на детскую площадку. Две качели, горка, невнятная скульптурная композиция, окрашенная масляной краской: устремленная ввысь Лиса и виноград, сыпью выступающий, вылущивающийся из каменного монолита. Трепеща, Лёня перевел взгляд ниже.
Два фонаря. Как раз в том месте, где два овала света сходятся… перекрещиваются… лежали… Даже с высоты одиннадцатого этажа Лёня узнал юное тело своей возлюбленной мильтонии, чьи цветы как райский фейерверк. «Милая моя… редкая моя…»
Мильтония Кловеса. Он вспомнил яйцевидные, тесно посаженные псевдобульбы самой искушенной гурии своего гарема и его душа горестно вздрогнула.
Пар валил изо рта, шея и лицо покраснели, а Лёня всё смотрел и смотрел на неправдоподобно пестрые ван-гоговские мазки тропических цветов в призрачно-белом искусственном свете.
Вон там лежит она, голубая ванда. Голубой – редчайший цвет у орхидей. Его ванда сорта «Лемел Йеп» принесла бы, возжелай он ее продать, не менее пяти сотен евроединиц. А теперь ее нет. Она умерла. Убита.
Рядом с ней, разметав по чуть занесенному снежком асфальту перегной и торф, обнажив подземные стебли, истекает своей эфирной кровью кудесница диза, своевольная мадагаскарская плясунья.
Леня без усилия воскресил в памяти тот особый наивно-порочный взгляд, которым приветствовала его диза, когда он входил в комнату. «Может быть, другие выглядят поизысканней меня. Но лишь со мной ты узнаешь, что такое счастье…» – вот о чем шелестели ее мясистые листья.
Резкий порыв ледяного ветра вернул Лёню в реальность.
«Надо что-то делать…».
Но что?
Позабыв затворить окно, он бросился, как был в джинсах, свитере и ботинках, вон из квартиры, чьи пропорции теперь казались вытянутыми, искривленными виноватой гримасой невольной соучастницы.
Мучительно медленно ехал лифт.
Сосед с шестого этажа, благополучно выгулявший по-коровьи пятнистого французского бульдога Басю, проводил Лёню длинным сочувственным взглядом. Даже Басе было ясно – где-то там бушуют обстоятельства чрезвычайной силы.
Пока Лёня обходил свой немалый панельный дом, чтобы добраться до детской площадки, перед его мысленным взором слепящими гоночными болидами проносились воспоминания.
…У каттлеи «Звезда Фукса» (чья инопланетность, несомненно присущая большинству орхидей, была усилена селекционером до уже почти галлюциногенного максимума – выгнутая белая в сизых прожилках, похожих на кровеносные сосуды губа, пять свернутых в трубочку лепестков, образующих звезду) от чрезмерного полива развилась черная гниль. Лёня, с мензуркой в руках, разводит новомодное лекарство, купленное в английском интернет-магазине. Его каттлеюшка глядит на него с боязливой настороженностью. Она уже давно не цвела, всему виной был лунный свет. Тогда неопытный Лёня еще не знал – каттлея не должна его видеть, и от него тоже следует каттлею заслонять. Днем прячем сокровище от солнца, ночью – от луны…