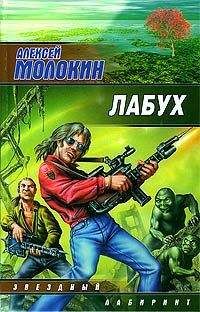— Ну что, лабаешь сегодня? Ты как, в форме? — К Лабуху подошел маленький тощий парнишка, длинные серые волосы собраны в хвост и перехвачены резинкой, заношенные джинсы в пыли, босые ступни оставляют на теплом асфальте птичьи следы. Одно слово — Мышонок. На плече у Мышонка красовался громадных размеров хоффнер-бас со скрипичным кузовом, заканчивающимся стальным яблоком. Из дула не то штуцера, не то противотанкового ружья, встроенного в бас, остро несло пороховой гарью. — А некоторые говорили, ты завязал с музыкой! Выключил звук. Я так и подумал, что врут. В запой ушел — это еще можно понять, а чтобы Лабух звук выключил — такого не бывает!
— Привет, Мышонок! — Лабух искренне обрадовался. Здорово, что Мышонок тоже здесь. Они хорошо знали друг друга и часто играли и сражались вместе. Давно, правда, в прошлой жизни, но прошлое, похоже, возвращалось. — Как добрался?
— Да ничего, только вот на Гнилой Свалке хреновато пришлось. — Мышонок покрутил босой пяткой, на асфальте образовалась круглая ямка. Музыкант с удовлетворением посмотрел на дело ног своих. — Прыгаю я себе с кочки на кочку, никого не обижаю, а тут, понимаешь, откуда ни возьмись, хряпы. Прут и прут, патронов почти не осталось, спасибо металлисты с бережка огоньком поддержали, вот оно и обошлось. Только кеды мои эти поганые твари сожрали. Где я теперь такие кеды возьму, скажи на милость? Придется на кроссовки переходить, а это, сам понимаешь, совсем не то.
Значит, Мышонок шел сюда через Гнилую Свалку. Ну что ж, Свалка, конечно, не Старые Пути, но тоже не подарок. Хотя неизвестно, что больше «не подарок»: Свалка или Пути. Наверное, дорога — личное дело каждого. По Сеньке шапка, по идущему — дорога. А Дайанка-то какова! Совсем обалдела со своими глухарями, на спортивном «родстере» приехала. Дорога, похоже, расстелилась перед ней что твое полотенце. Может быть, она и глухаря своего долбанного сюда притащила? С нее станется! Она, помнится, рассказывала, что он не совсем глухарь. Хотя разве так бывает? Либо ты глухарь, либо слышащий. Третьего не дано.
— Лабух, тут Густав по твою душу, — Мышонок дернул его за рукав. — Понтуется, баллон катит, говорит, что лучше бы ты не выползал из своей норы, потому что сегодня он тебя наконец достанет.
Густав был эстом, попсярой, и крутым попсярой. А еще он был деловым. Когда-то давно они вместе с Лабухом шлялись по подворотням. Там, под дешевый портвейн и смачные анекдоты о славных блатняках Миньке и Гриньке учились трогать гитару и женщину. Потом Густав и сам стал подворотником, распевал песенки про дорогу дальнюю да тюрьму центральную, душевно так распевал. И дрался от души, зверски дрался, не щадя ни противника, ни себя самого. И вот подфартило, вывезла кривая, деловые его приметили. Смышлен был парнишка, проворен и понятлив, да и спуску никому не давал, вот и выбился в пастухи. Шмары и телки готовы были на все ради жесткого ежика светлых волос и пустых прозрачных глаз своего пастуха. Поэтому и дела у него шли куда как хорошо. А Густав продолжал петь. Он расширил свой репертуар от тюремной лирики до попсовых шлягеров типа «Ай, яй, яй, девчонка, где взяла такие ножки!» и «Я тебя имел на Занзибаре», обзавелся приличной боевой гитарой с подствольником и выкидной финкой а заодно здоровенным черным джипом. Скоро из пастуха он поднялся до скотника и, наконец, стал барином. Ловок был Густав и не раз уходил даже от музпехов. Шмары и телки были его главным оружием, они дрались за него, как бешеные кошки, они заслоняли его своими телами и выстилали ему дорогу своей плотью. А Густав только смеялся. Что ему до того, что какая-нибудь шмара окажется завтра хабушей, и в хабушах люди живут.
А Лабух ушел из подворотни, спасибо деду Феде — вразумил в свое время. И теперь бывший кореш Густав ненавидел Лабуха всей своей покрытой наколками душой, так, как может матерый попсяра ненавидеть рокера, как подворотник ненавидит вышедших на свет, как деловой ненавидит свободного человека. А еще была Дайана...
— Пусть катит, — Лабух пожал плечами. — Лопнет его баллон на этой дорожке.
— Можно, я с тобой, ежели что? У него же телки и шмары.
— Знаешь же, что нельзя, правила не позволяют. А телки и шмары — его законное оружие. Такое же, как твой «Хоффнер».
— Знаю, только, по-моему, неправильно это. Надо было его подстеречь где-нибудь на Гнилой Свалке или в Гаражах. Хоть это и не по правилам, но с Густавом только так и можно.
— Ты что, Мышонок, в подворотники захотел? Да и не ходит теперь Густав по Гнилым Свалкам, и по Старым Путям не ходит, — Лабух закурил. — Он и в переходах-то сейчас редко бывает. Мелковат для него стежок. С глухарями у него дела какие-то, и музпехов он теперь не боится. Ух, каким большим человеком нынче стал наш Густав!
— Ну ладно, — Мышонок оперся на свой «Хоффнер». — Только, в случае чего, в этот раз секунду играю я. Договорились?
— Заметано! — Лабух надел чехол на лезвие штык-грифа. Играть секунду означало быть вторым бойцом на дуэли. Мышонок, несмотря на свою субтильность, был очень хорошим бойцом, проворным, неутомимым и жестким. — Слушай, а кто здесь еще из наших?
— Рафка Хендрикс. Струны на своем «Джибсоне» меняет. Досталось ему, он через проспект переходил и там с патрулями схлестнулся. Везет ему на патрулей! Ну, еще Дайана, но она, вроде как, теперь и не наша вовсе.
— Понятно. «Роковые яйца» в некомплекте. Групповой портрет без дамы. То-то Густав пузырится. Чем он хуже глухаря? Ну ладно, пошли, пора, наверное.
Гулкое пространство бывшего железнодорожного депо было заполнено рокерами, эстами, подворотниками, деловыми, телками и герлами. Попадались здесь и хабуши. Ведь сегодняшний хабуш — это вчерашний звукарь, потерявший свою музыку и инструмент. В толпе выделялись белые рубахи и полосатые штаны народников, пестрые сарафаны и кокошники их подруг. Отдельной группкой стояли джемы в своих клетчатых пиджаках и узких галстуках, со сверкающими боевыми флюгергорнами и кларнетами. Над стайкой канотье и котелков словно заходящее солнце маячил плосковатый раструб громадной боевой тубы. Металлисты, все как один в черно-рыжих, под цвет ржавчины, куртках из хряпо-вой кожи, сосредоточенно наливались пивом. Их крупнокалиберные гитары вызывающе блестели никелированными стволами. Словом, каждый был на своем месте и в своем репертуаре. В общем и целом, представительная получалась тусовка. Кое-кто, не скрываясь, покуривал халявную травку. Синий сладковатый дымок поднимался к железобетонным балкам потолочных перекрытий и уходил в выбитые стекла световых фонарей. Из рук в руки переходили фляги с пивом и бутылки с портвейном. Здесь царило перемирие. Враги по жизни здесь вместе пили, вместе пели, иногда занимались сексом. Таковы были традиции. Спиртное и травку поставляли деловые, зачастую бесплатно или за чисто символическую цену. На рельсах стояли старые, но все еще роскошные вагоны первого класса. Через открытые окна виднелись диваны и кресла, покрытые битым молью красным бархатом. В оконных проемах призывно маячили смазливые мордашки и бюсты чрезвычайно легкомысленно одетых девиц. Девиц тоже поставляли деловые, и тоже бесплатно. Впрочем, девицы не возражали. Около тамбуров на длинных столах было выставлено бесплатное угощение. На одном из вагонов красовался громадных размеров плакат: «Сегодня платит Густав! Коль у вас в стакане пусто — угостит на славу Густав!». Сам Густав в каком-то невообразимом малиновом, расшитом золотом кафтане, с неизменным золотым же шипастым мобильником на пузе и сверкающей боевой электрогитарой-топором, стилизованной под семиструнку, выглядел весьма импозантно, словно опереточный царь Мидас. Уши, правда, не торчали, а если бы и торчали, то Густава это вряд ли бы смутило. Хозяин тусовки стоял на открытой платформе среди различной, весело мигающей разноцветными огоньками аппаратуры. У его ног в живописных позах разлеглись разнообразно раздетые поклонницы. Прямо-таки не звукарь, а живой монумент блатной попсе. Увидев Лабуха, он небрежно стряхнул с остроносого сапога прилипшую рыжеволосую диву и начал спускаться с платформы. Публика расступалась перед ним, словно отбрасываемая в стороны развевающимися полами его одеяния. Лабух остановился. Густав прошествовал сквозь толпу, подошел почти вплотную и, ласково улыбаясь, протянул: