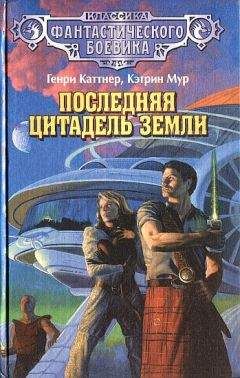Сквозь сырое, красное облако доносится тонкий визг Моли – Уитлоу всегда был его опорой и корнями. Серый туман рассыпается, и Главк выбрасывает руку, удерживая девушку от падения.
Он вытянул себе столько судьбы, насколько хватило таланта: кара и игра, наказание и состязание. Он только что совершил величайшее деяние в своей жизни, и почти самое последнее – почти.
Судьба, чью нить он схватил и вытянул, была доброй – но не к нему. Это он знал с самого начала. Главк кладет девушку на лед – она по-прежнему безучастна, по-прежнему смотрит чужими глазами.
– Не за что… – бормочет он непонятно в чей адрес, затем крестится – старая привычка – и встает на колени.
Мстители приближаются. Главк толстой, уродливой рукой бережно отодвигает тело девушки подальше.
На него обрушивается лавина кошек. Он их первая добыча. «И поделом, – думает он. – Один птичий ужас знакомится с другим». Главк сворачивается в клубок, как отчаявшийся ребенок, и, собрав остатки воли, силится не внести свою ноту в общий визг. На лед брызгает кровь. Серая волна откатывается еще до того, как с ним покончено, однако темнота успевает опуститься, боль цепенеет и стягивается в одну-единственную, дрожащую прядь.
Что-то еще умрет.
Кошки отыскали себе другую добычу. Поважнее.
Тифону не ведомо ни время, ни пространство. Он бездумно существует в сгущенной бесформенности размером меньше самой ничтожной точки. По большей части его можно описать – подобно тому, как можно описать муз или Брахму, – лишь отрицаниями: он не представляет собой то, не представляет собой это…
Давайте все же попробуем упростить ситуацию и воспользуемся человеческими словами, обозначающими мотивы, виды деятельности и эмоции, которые ведомы людям, – так гораздо проще донести смысл, пусть даже переврав его по ходу дела.
Итак, когда Тифон впервые заметил существование нашего дряхлеющего космоса, он почувствовал вакансию – и шанс. Старый космос обладал малым набором защитных свойств. Его многочисленные наблюдатели были рассеяны по обширнейшей и истонченной геометрии, что поизносилась за долгие, декадентские эры. Подобно упавшему в лесу дереву-исполину, медленно истекающему живицей и волей, сердцевина космоса начала крошиться.
Тифон был юн – по меркам вещей, которые не знают времени, – и неопытен. Даже самые крошечные, самые бесформенные претенденты на власть обязаны доказать свои качества. Это и был его шанс – пустить корни, словно семечко, упавшее в трещину гниющего, питательного кряжа-подвоя. Он бы вознесся над умирающим мирозданием, разросшись до благородного великолепия.
До Божественности.
Он не ожидал никакого сопротивления. В этом-то и состоял его просчет. Он не знал, как задействовать, обратить в свою пользу конфронтацию и дерзкое неповиновение: навыки, необходимые любому богу. Заряд творения – свобода нестесненной воли – порождает любовь.
Но только не для Тифона. Всякий раз, когда он сталкивался с вещами, которые хоть в чем-то не шли с ним в ногу, противились, он кончал с ними – с превеликим страхом и ненавистью.
А затем нашел это занимательным.
Он упивался ненавистью, и несколько триллионов лет эту ненависть ничто не могло остановить.
Тифон нашел, в чем состоит его первейшее свойство.
Однако сейчас, во всех возможных пространственных измерениях, начали появляться концовки, последствия объединялись в единую картину. Тифон уже не был юным богом или бесконечно малой точкой, обретаясь везде и нигде одновременно. Он приобрел своего рода ограничение, нежелательную субстанциальность – конденсируемую из дубль-пустоты, моноблока-подстилки подо всем возможным творением, – произрастающую из мельчайшей виртуальной пены самого что ни на есть крошечного вакуумного пузырька.
Тифон обретает пространственное измерение и форму – он распухает и расползается. В страстной, бессмысленной любви к деструкции и разрушению он окончательно теряет фокус целеустремленности, который некогда прикладывал к сиюминутным прихотям и капризам.
Сверхрастянутый космос – крошащийся подвой – одряхлел до того, что превратился в ловушку. Кружатся армиллярные лезвия Брахмы. Нынче здесь неподходящее место для раздутого, недисциплинированного божка.
Тифону осталось только из последних сил молотить по стенкам своей вращающейся тюрьмы, вызывая еще больше страданий и лишаясь любых возможностей на хороший конец. Свою грязь он растянул назад во времени, извращая творение, вызывая бесконечные циклы тупо расточаемой боли. Он подталкивает наш космос к гнусному концу, растворяя пространство и время вплоть до точки начала, – пожирает и портит все познаваемое.
Можно лишь предполагать, что ожидало Тифона в более счастливых обстоятельствах. Не исключено даже, что нам, испытавшим на себе ядовитое прикосновение, следовало бы проявить жалость – всем нам, до единого человечка.
Всем, почувствовавшим скверну, которая проистекает из будущего, а не из прошлого.
Последний грех.
Однако мы не годимся на подобные умозрительные поступки. Мы не способны испытывать жалость к неудачливому богу.
А посему…
Не будем. Ни к чему его жалеть.
Тифон – никогда не обладавший ни мыслями, ни внутренностями, ни совестью, ни симпатией – вдруг осознает, что сейчас ощущает его раздутый каркас: нечто вроде дурного предчувствия – если не сказать, страх. Его мощь не превышает силу тех, кого он некогда давил.
Он превратился в небольшое серо-бурое нечто посреди останков Вселенной – эдакий метафизически абортированный плод, да только жалости к нему не испытывают. Его история вот-вот исчезнет, от его действий и их последствий не останется и следа.
Близится то, что он изо всех сил пытался остановить, предотвратить. Даже орудия, которые он выковывал всю вечность, и те восстают против него. Он чувствует, как скручиваются и переплетаются две последние пряди, силятся аннулировать любые попытки Тифона – работают, суммируют против них.
Одна из прядей начинает растворяться.
Тифон переживает незнакомое чувство – страшное, жуткое ощущение последней надежды.
Выживет лишь одна прядь, что вряд ли благоприятно для любого космоса.
Тифон, наверное, обратится в истинное ничто, но прежде с удовольствием уничтожит всех наблюдателей без исключения – их бесстыжие глаза навечно закроются.
Не будет больше воспоминаний.
Повествований.
Во веки веков.
Сквозь снег, туман и ледяные торосы Джинни рвется к голубому свету. Джек нагоняет ее, невероятным усилием бросившись по последней нити фатума, в окружении всех прочих возможных исходов, порубленных в клочья лезвиями армиллярной сферы. Помощь камней едва ощутима.
– Эй, – говорит он.
– Эй. – Джинни бросает на него мимолетный взгляд. – Поосторожней с кошками. Они будто с цепи сорвались.
– Ну… Слушай, я почти не надеялся…
– Я думала, ты про меня забыл.
– Ни за что.
Джинни тянется к нему, Джек протягивает руку – их ладони встречаются… Объятие, ощущение взаимного тепла, что-то связывает их вместе – чувственность этого мига превосходит все, что они доселе знали. Их подпитывает силой. Сум-бегунки звонко стыкуются, едва не прищемив пальцы, затем отскакивают в стороны, оставляя после себя яркую рыжеватую дугу.
– Нам нужно минимум три штуки, – говорит Джинни. – Это я точно помню.
– А если третьего камня не найдется, мы потеряем все – так?
– Наверное… А это кто? – Джинни показывает пальцем на силуэт в тумане.
Джебрасси достигает края слепящей голубизны – он наг, его колотит крупная дрожь, ноги, кажется, до самых колен превратились в промороженные чурбачки. Два высоких человека – во всяком случае, он решает считать их людьми, – приближаются, проясняясь сквозь дымку. Один из них подхватывает Джебрасси под мышки, помогает встать на ноги.
Рост у них довольно приличный, хотя и не сравнить с Высоканами – куда ниже Гентуна. Сквозь зеленоватый буран он вглядывается в знакомое лицо, переключает взгляд. Видит себя через другого человека, хотя на самом деле зрение почти отказывает. Непрерывные потоки голубых молний бьют между ними, не позволяя видеть детали, и разжигают яркое чувство обновленной силы воли – возможно даже, приток энергии.
Они разговаривают, однако слова трудны для понимания. И тогда Джебрасси предлагает им все, что у него осталось – как ребенок протягивает игрушку новым друзьям, старым знакомым, – многогранник с четырьмя отверстиями.
Вещица чуть ли не взрывается голубыми дугами.
Эти двое вытаскивают два скрученных куска камня, в чьих складках тлеет по красноватому огоньку – нет, алые искры сияют ярче голубых молний. Должно быть, это и есть так называе…
Сум-бегунки вылетают из рук, влипают в многогранник, отверстия которого с предельной точностью совмещаются с неправильными контурами камней. Они ждали этого миллиарды лет и наконец, провалившись сквозь умирающую Вселенную, обрели путь домой.