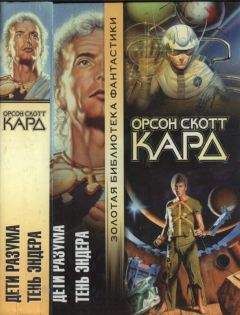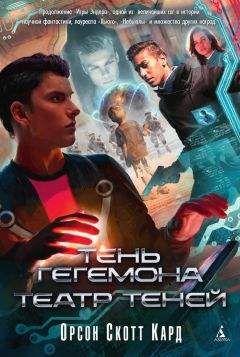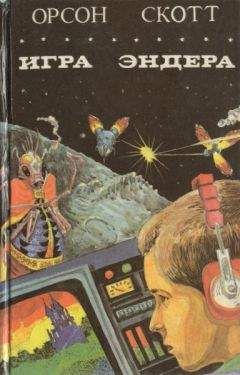Рабби вышел вперед и встал рядом с женщиной. Из уважения к нему толпа отступила, и люди замерли в ожидании, все еще сжимая камни в руках.
— Есть ли среди вас те, — сказал он им, — кто никогда не пожелал жену другого мужчины, мужа другой женщины?
И люди ответили:
— Всем нам знакомо это желание. Но, Рабби, никто из нас не поддался ему.
И Рабби сказал:
— Тогда встаньте на колени и благодарите Бога за то, что он дал вам силы. — Он взял женщину за руку и увел ее с площади. И прежде чем отпустить, прошептал ей на ухо: — Расскажи лорду правителю, кто спас его фаворитку. Пусть он знает, что я его верный слуга.
Женщина осталась в живых, потому что община ее слишком продажна и не может защитить себя.
Другой Рабби, другой город. Как и в первом случае, он останавливает толпу, подходит к женщине.
— Пусть тот из вас, на ком нет греха, первым бросит в нее камень.
Люди ошарашены, они забывают о своем единстве, о своей цели, ибо начинают вспоминать свои собственные прегрешения. «Может быть, — думают они, — придет день, и я окажусь на месте этой женщины, тогда я сам буду нуждаться в прощении и возможности начать все сначала. Я должен обращаться с ней так, как желал бы, чтобы обращались со мной».
Они разжали руки, и камни посыпались на землю. И тогда Рабби подобрал один из упавших камней, высоко поднял его над головой женщины и изо всех сил швырнул камень вниз. Удар расколол череп несчастной, ее мозги забрызгали мостовую.
— Я тоже не без греха, — сказал людям Рабби, — но, если только совершенным людям будет позволено осуществлять правосудие, закон скоро умрет, и наш город погибнет вместе с ним.
Женщина умерла, ибо ее община была слишком окостенелой, чтобы выносить отклонения.
Наиболее популярная версия этой истории замечательна тем, что описывает практически уникальный случай. Большая часть сообществ колеблется между разложением и ригор мортис (трупным окоченением) и гибнет, если заходит слишком далеко в ту или иную сторону. Только один Рабби осмелился потребовать от людей совершенного равновесия — соблюдения закона и милосердия к оступившемуся. Естественно, мы убили его.
Сан-Анжело. Письма к начинающему еретику. Перевод Амай а Тудомундо Пара Кве Деус вое Аме Кристано. 103: 72:54:2.
«Минья ирман. Моя сестра». Эти два слова гудели в голове Миро так долго, что он перестал их замечать, они превратились в фон. «А Кванда э минья ирман. Кванда — моя сестра». Ноги несли его привычной дорогой — от прассы на детскую площадку, в лощину, на вершину холма. На самом высоком холме города поднимались шпиль собора и башни монастыря, нависавшие над Станцией Зенадорес и над воротами, словно сторожевые крепости, охраняющие проход. «Наверное, Либо шел этой дорогой, когда отправлялся на свидания с моей матерью. Интересно, они встречались на Биостанции? Или ради сохранения тайны валялись просто на траве, как свиньи на фазендах?»
Он остановился у дверей Станции Зенадорес и попытался придумать какую-нибудь причину, чтобы войти туда. Только ему нечего там делать. Он еще не написал доклада о сегодняшних событиях, но ведь он так и не понял, что именно они видели. Магия — иначе не назовешь. Свинксы поют дереву песенку, и оно в ответ разваливается на доски и инструменты. «Да уж, плотник бы там остался без работы. Аборигены оказались куда более развитым народом, чем мы предполагали. Предметы многоцелевого использования. Каждое дерево одновременно тотем, надгробный памятник и маленькая фабрика по производству разных разностей. Сестра. Я должен что-то сделать, только не помню что.
Свинксы подходят к этому разумнее всех. Считают друг друга братьями и плевать хотели на женщин. Разве не было бы лучше для тебя, Либо, — и ведь это правда — ой, нет, я должен называть тебя папой, а не Либо. Как жаль, что мама ничего тебе не рассказала, ты бы мог качать меня на колене. Своих старших детей: Кванду на одном, Миро на другом. До чего же прекрасные у нас дети! Родились в один год — всего два месяца разницы. Как, наверное, уставал бедный папа! Сбегал от жены, чтобы потискать маму на нашем заднем дворе. Все жалели тебя — у бедняги только дочери. Зря жалели. Ты породил чертову уйму сыновей. А у меня, оказывается, куда больше сестер, чем я когда-либо думал. На одну сестру больше, чем нужно».
Он стоял у ворот и смотрел на черную полосу леса, начинавшуюся от вершины холма. «У меня нет никаких научных оснований для ночного визита туда. Что ж, пожалуй, воспользуюсь вполне ненаучным желанием. Схожу узнаю, есть ли на поляне место еще для одного брата. Я, наверное, слишком велик, чтобы спать в хижине, так что придется мне жить снаружи. И я не очень хорошо карабкаюсь по деревьям, но зато знаю парочку технологических трюков, и теперь мне ничто не мешает рассказывать то, что вы захотите знать».
Он положил ладонь правой руки на коробку распознавателя, а левой потянулся открыть ворота. На долю секунды замер, не понимая, что происходит. Потом его руку словно обожгло, нет, ее явно пытались отпилить ржавой пилой. Он вскрикнул и оторвал ладонь от ворот. Со времени установки ворот они никогда не оставались «горячими» после того, как зенадор клал руку на распознаватель.
— Маркос Владимир Рибейра фон Хессе, ваше право пребывания за оградой отнято у вас по приказу Эвакуационного Комитета.
Со времен основания колонии ни разу никто не смел остановить зенадора. Миро потребовалось несколько минут, чтобы понять, что говорят ворота.
— Вам и Кванде Квенхатте Фигейре Мукуби следует немедленно сдаться Исполняющей Обязанности Начальника Полиции Фарии Лиме Марии до Боскве, которая обязана арестовать вас именем Звездного Конгресса и доставить на Трондхейм для суда.
Миро чувствовал, что у него кружится голова. Сильно подташнивало. «Они узнали. Сегодня. Ничего себе вечерок выдался. Все кончено. Потерял Кванду, потерял свинксов, работу, потерял все, куда ни ткни. Арест. Трондхейм. Оттуда прилетел Голос. Двадцать два световых года. И никого, кроме Кванды, даже Голоса, никого, а она моя сестра!»
Его рука снова метнулась к воротам — открыть. И снова его ударило невыносимой болью по всем нервным окончаниям одновременно.
«Да, я не могу исчезнуть. Они наверняка запечатали ворота для всех. Никто не сможет пойти к свинксам, никто не расскажет им, они будут ждать нашего прихода, но никто больше не выйдет из ворот. Ни я, ни Кванда, ни Голос. Никто. И никаких объяснений.
Эвакуационный Комитет. Они увезут нас и уничтожат все следы нашего пребывания здесь. Это все записано в правилах, но ведь там есть еще много всякого, не так ли? Что они увидели? Как узнали? Это Голос рассказал им? Он слишком привязан к правде. Я должен объяснить свинксам, почему мы больше не придем, я должен рассказать им».
Свинксы всегда следили за ними, шли по пятам с той минуты, когда люди входили в лес. Может быть, и сейчас кто-то наблюдает за воротами? Миро помахал рукой. Нет, слишком темно. Они не смогут заметить его. Или смогут? Никто толком не знал, насколько развито у свинксов ночное зрение. Заметили его или нет, но сюда они не собираются. А скоро будет поздно. Если фрамлинги следят за воротами, они уже сообщили Босквинье. Наверное, она уже торопится сюда, летит над травой. Да, ей будет крайне неприятно арестовывать его, но она сделает свое дело. И не имеет смысла спорить с ней о судьбах людей и свинксов, об идиотизме сегрегации. Она не из тех, кто сомневается в справедливости законов, она сделает, как ей скажут. И ему придется подчиниться. Нет смысла сопротивляться. Ну где он спрячется в пределах ограды — среди кабр, что ли? Но прежде чем сдаться, надо поговорить со свинксами, рассказать им все.
А потому он двинулся вдоль ограды, вниз по склону церковного холма, туда, где тянулась открытая степь. Где никто из людей не мог услышать его. Он шел и звал. Не словами — высоким, воющим звуком. Этим криком они с Квандой подзывали друг друга, когда находились в лесу, среди свинксов. Они услышат, должны услышать, и придут, потому что он не может прийти к ним. «Давайте, Листоед, Стрела, Чашка, Календарь — все кто угодно, приходите, мне нужно сказать вам, что больше я вам ничего не смогу рассказать».
Квим, нахохлившись, сидел на табурете в кабинете епископа.
— Эстевано, — спокойно продолжал епископ, — через несколько минут здесь начнется совещание, но я все же хотел бы поговорить с тобой.
— Тут не о чем разговаривать, — ответил Квим. — Вы предупреждали нас — и это случилось. Он дьявол.
— Эстевано, мы немного поговорим, а потом ты отправишься домой и ляжешь спать.
— Никогда туда больше не вернусь.
— Наш Господь принимал пищу и с худшими грешниками, чем твоя мать. И прощал их. Разве ты лучше его?
— Ни одна из прелюбодеек, которым он давал прощение, не была его матерью.
— В мире только одна Святая Дева.