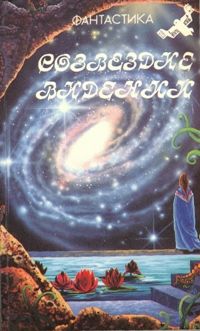Теперь другой Иван положил руку на плечо Ивану Младшему:
— Ты вот говоришь, лес можно отодвинуть на полкилометра, что его от этого не убудет. А ведь убудет. Еще как убудет. Наши отцы лес не трогали, мы не тронули, и вы не смейте. Вот ты березку под корень рубанул — и меньше у твоей, родины стало на одно дерево.
— Ну, я ж не рубанул. — Не рубанул… Не ухватили бы за руку, рубанул бы и не подумал.
— Да ладно вам! — обиделся Иван Младший, стряхнул с плеча руку одного из Иванов и скорее зашагал вперед.
— Иван! — окликнули его. — Иван, постой! Ваня, да что ты, боже ты мой!
Но тот даже не оглянулся. Иван Филатенков кивнул Ивану Федотенкову, усмехнулся и вдруг ни с того ни с сего негромко пропел частушку:
Ты Иван, и я Иван —
Голубые очи.
Мы с тобою в Магадан,
Ну а кто-то в Сочи.
Пропел, притопнул ногой и окликнул Ивана Младшего:
— Вань! Слышь, Вань! Ты в Сочах бывал? Ну, обиделся…
— Не бывал, — ответил тот, не оборачиваясь.
— Жаль. Побывай обязательно: Там, говорят, хорошо. Тепло. Море. А в Магадане тебе делать нечего.
Иван Младший обернулся, горбясь и кося плечом, и усмехнулся.
Дорога в лесу была сухая, только кое-где ночью с долгих трав нападало росы, и теперь там темнело, парило. Полуденная жара проникала всюду, в такую пору и в тени не отдохнешь. Хотелось пить, они облизывали губы, оглядывались по сторонам и молча шли и шли дальше. До Каменки оставалось немного, и с разговором прикончили.
Вскоре лес отступил от дороги, и чем дальше Иваны шли, тем шире он расступался. По обочинам- тянулись уже настоящие луга, и если бы их косить, к примеру, не к лесу, а вдоль, то надо было бы Делать, пожалуй, не меньше трех, а то и все четыре загонки. Рос здесь сочный и цепкий придорожный клевер, местами пестрела иван-да-марья, от нее даже глазам больно становилось, мрели на жаре на лысых песчаных буграх, потревоженных съехавшей с насыпи машиной, столбы иван-чая и коровяка, а кое-где лоснились ровными, будто перья на птичьем крыле, усами колосья ржи. Дорога стала немного кривиться вправо, обходя сырую лощину. По дну лощины неслышно тек ручей, русло его будто нарочно кем было беспорядочно закидано крупными и мелкими округлыми камнями.
— Ну, братцы, вот и пришли, — сказал кто-то, и каждому из троих показалось, что эти слова сказал он.
Они свернули с дороги. Гремя ботинками и сапогами, пролезли через пыльную полынь — чернобыльник, вольно росший по откосам насыпи и дальше, до самого леса, подошли к невысокой тесной оградке и обступили ее молча.
Давно сюда никто не ходил. Оградку, как видно, покрасили лет пять назад, краска побелела, местами и вовсе отшелушилась и опала заскорузлой чешуей. Крест повалился навзничь, вывернувшись из земли рыхлым заплесневелым комлем и опершись одной стороной широкой верхней перекладины на оградку. По нему, таская различный сор и пряча в глубокие трещины белые продолговатые кругляшки яиц, ползали муравьи. Они спешили по невидимым дорогам, обгоняли друг друга, останавливались друг перед другом, стригли чуткими усиками, будто антеннами, возвращались назад; в своей разумной неиссякаемой суете они были похожи на людей. Холмик зарос все тем же чернобылом. Возле калиточки, державшейся на проволочных скрутках, валялся позеленевший стакан с отбитым краем и пустая бутылка. Да, лет, пожалуй, пять сюда никто не ходил.
Иван Филатенков сорвал с калитки проволочный обручок, шагнул за оградку, встал на колени, раздвинул пыльную полынь и поцеловал сухую натруженную землю и, запрокинув вверх потную стриженую голову, сказал: «Прости, Христинущка. Прости, родимая. Что не увидал тебя с дороги, когда шел сюда, прости. И что не вернулся. И за все остальное тоже, Христннушка…»
Долго он стоял на коленях перед могилой жены, долго немо смотрел в землю, вдыхая горький и жаркий полынный дух, обжигающий не только гортань и глаза, а и проникающий в самую душу й запекающийся там, в ее потемках, больными сгустками. Никто не смел ни окликнуть его, ни потревожить остановившуюся здесь и будто засмотревшуюся на них тишину. Он больше чем кто-либо имел право на эти долгие немые минуты.
«Эх, да словно ж вчера все было!» — сказал он, качнулся и снова приник лбом к горячей земле. Здесь, внизу, полынью пахло еще сильнее, и Иван Филатенков подумал в какое-то мгновение: «Вот, родным духом хоть подышу вволю. Говорят, что полынь везде пахнет одинаково. Может, кому-то и вправду одинаково. Но вот эта… Горше этой, видать, во всем свете нет».
Так думал Иван Филатенков, лежа на могиле своей жены.
Потом он встал, так же молча и не поднимая головы, пошел в лес. Час или два спустя, никто того времени не считал, он вернулся на выкошенную уже луговину, неся на плечах своих широкий розоватый ясеневый крест. Иваны, попеременно косившие округу, подхватили было тот крест под перекладины, как подхватили бы человека под руки, но Иван Филатенков отстранил их.
Он сделал все так, как хотел. Поднял холмик, обложил его дерном. А сделав все, снова встал на колени и поклонился троекратно и сказал: «Ну, вот мы и свиделись, Христинушка. Прощай, родимая. Мне идти надо. Будем на днях уходить, так зайду. Зайду попрощаться». Затем он встал, вышел из оградки и велел проститься с Христиной Ивану Федотенкову, все время стоявшему поодаль. А Ивана Младшего подтолкнул к дороге и сказал:
— Пойдем. Пусть они тут одни побудут. А стежку к дороге что ж не прокосили?
— Не успели, дядь Вань. Я сейчас, — спохватился парень, но Иван. Филатенков взял у него из рук косу, не спеша направил ее бруском и пошел широким густым рядом к дороге.
— Вот, Иван, — сказал он, дойдя до насыпи, — чтоб всегда так было. Понял?
— Понял, — без обиды ответил Иван Младший; в другой раз, может, и обиделся бы, что с ним так, как с маленьким, а теперь нет.
— То-то. Тетка тут твоя лежит. Родная кровь. Христина. Хороший человек. Не забывай. Если стежка — чернобылом… Если опять… Тогда грош тебе цена. И тебе, и всем вам. Вот так. Пошли.
Глава седьмая. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
В тот новый день застучали по всему Пречистому Полю топоры, найденные в чуланах и сараях, отчищенные от ржавчины лет и остро отточенные косными брусками, брызнули из-под пил опилки, забелело по всему селу затесанными гладко, в овал, бревнами и, свежестругаными тесинами, женственно прогибавшимися над стрижеными потными, черными и русыми, а то и совсем седыми головами солдат и растерянными лицами нынешних пречистопольцев, которые не могли еще прийти в себя и до конца поверить в то, что произошло.
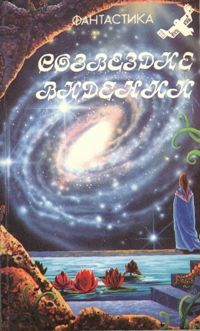
![Айзек Азимов - Роботы утренней зари [ Сборник]](https://cdn.my-library.info/books/56423/56423.jpg)
![Айзек Азимов - Роботы зари [Роботы утренней зари]](https://cdn.my-library.info/books/54967/54967.jpg)