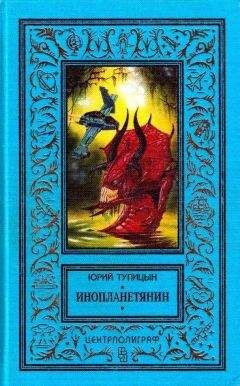- Послушайте, Генри, ответьте мне откровенно. Как вы, собственно, относитесь к эмансипации?
Ошарашенный этим неожиданным вопросом, Мейседон ответил не сразу и довольно уклончиво:
- Я полагаю, что женщины имеют право на известную самостоятельность и равноправие.
Старик сердито взглянул на него.
- Это ваше убеждение? Или вы это брякнули просто так, чтобы отделаться от меня?
Мейседон снова задумался, мысленно пожалев о том, что не курит: когда человек берет сигарету и щелкает зажигалкой, пауза не кажется столь длинной и неловкой. Но Милтон ждал, не выказывая ни малейшего признака нетерпения, и полковник приободрился:
- Честно говоря, - медленно проговорил он, - я никогда не размышлял серьезно об этой проблеме. Но, как мне представляется, эмансипация влияние времени. Всеобщая грамотность, атомная энергия, повсеместное внедрение компьютеров, эмансипация - все это разные стороны одного и того же процесса.
- Добавьте сюда разврат, алкоголизм, наркоманию, гомосексуализм - и картина будет полной, - саркастически заметил старик.
- Все это уже было, - миролюбиво заметил Мейседон. - Было и в Ватикане, и при французском королевском дворе, и в русской императорской столице. Только то, что раньше было доступно лишь избранным, теперь доступно почти всем, во всяком случае, в нашей стране. Разве удивительно, что люди немного ошалели?
- Вот именно, ошалели, - мрачно подтвердил Милтон. - Особенно эти самые эмансипированные дамы.
Он хлебнул глоток, поморщился и спросил:
- Вам не кажется, что это пойло сегодня слишком горчит?
Мейседон отпил из своего бокала.
- По-моему, вкус обычный.
- А мне чудится горечь. - Старик сделал еще глоток, поморщился, отставил бокал в сторону и вдруг спросил: - Послушайте, Генри, а почему, собственно, у вас с Сильвией нет детей?
По лицу Мейседона бизнесмен понял, что этот вопрос ему неприятен, а поэтому поспешил добавить:
- Я спрашиваю об этом как отец. Не сердитесь. Генри.
Мейседон ответил не сразу и без всякой охоты:
- Во всяком случае, дело не во мне.
- Я так и думал. Почему бы вам не поговорить с Сильвией серьезно?
- Я пробовал. Она уходит от этого разговора.
Старик в знак понимания покивал головой, подумал и с какой-то странной ноткой в голосе посоветовал:
- И все-таки стоит поговорить с ней еще раз. Стоит, Генри.
Этот разговор оставил у Мейседона странное и отчасти тягостное впечатление недоговоренности. Ему казалось, что старик сказал ему далеко не все, что хотел сказать.
У Мейседона был тренированный ум, приученный к холодному анализу фактов, и от этого анализа ему стало поистине холодно. Сильвия стала очень раздражительной. Споры у них бывали и раньше, но случались они редко и, в общем-то, заканчивались быстро и мирно - они легко шли на взаимные компромиссы, причем инициатива нередко принадлежала именно Сильвии. Теперь же ссоры вспыхивали черт его знает из-за чего! Из-за того, что Генри уронил вилку, надел не тот галстук, использовал не тот одеколон. Однажды во время завтрака, когда Мейседон управлялся с яйцами, сваренными в мешочек, Сильвия вдруг сказала:
- Как некрасиво ты ешь.
Голос у нее был тусклый и равнодушный, может быть, отчасти поэтому Генри поднял на нее глаза и встретил странный - чужой, оценивающий взгляд.
- У тебя челюсти, как капкан, - ответила она на его немой вопрос. - И ты чавкаешь. Вытри губы!
Мейседон пожал плечами, вытер губы салфеткой и миролюбиво сказал:
- Я всегда так ем.
- Вот именно! - Сильвия тряхнула волосами и встала из-за стола.
Эта история произошла месяца три назад, но она вдруг вспомнилась Мейседону так отчетливо, точно Сильвия только-только вышла из комнаты.
Мейседон тогда обиделся, но серьезного значения этой истории не придал. Теперь же, прогоняя ее в памяти, точно киноленту, он с похолодевшим сердцем вдруг понял, что, скорее всего, Сильвия его ненавидела. Ненавидела какими-то тайниками своей души, и порой это чувство бывало у нее очень острым... "Я тебя ненавижу! - не раз кричала она ему в разгар ссоры. Пойми, я тебя ненавижу!" Этим выкрикам Генри не придавал серьезного значения. В пылу гнева, в слезах Сильвия могла наговорить черт-те что. О своей ненависти она кричала ему и до свадьбы, и во время медового месяца, это отнюдь не мешало ей буквально через четверть часа становиться милой, ласковой, любящей женщиной. Ее сестрица, Сондра, бывшая однажды свидетельницей такой сцены, тихонько посоветовала не обращать внимания на Си - она с детства была немного истеричкой. Все это было и было, но у Мейседона вдруг открылись глаза: ему припомнилось, что в последнее время после своих слов о ненависти Сильвия уже не становилась милой, любящей женщиной. Немедленного примирения теперь не наступало. Они замыкались каждый в себе, неприязнь стойко держалась дня два-три, а примирение скорее носило характер перемирия.
И еще одна любопытная деталь. Раньше в разговорах с друзьями, приятелями и знакомыми Мейседон все время получал мимолетные, проходные весточки о Сильвии: кто-то ее видел, некто с ней мило побеседовал, к кому-то она обратилась с пустяковой просьбой и так далее. И вдруг некий странный заговор молчания! Точно Сильвия перестала появляться на людях. Но ведь Генри знал, что это не так. Объяснение могло быть лишь одно: о Сильвии просто избегали говорить в присутствии Мейседона, а Генри хорошо знал, по каким причинам в их среде о женщине избегают говорить в присутствии ее мужа.
И потом этот странный разговор со стариком, эти речи об эмансипации и отсутствии потомства.
Мейседон провел бессонную ночь, терзаясь муками унижения и ревности, и совершенно уверился в том, что у Сильвии есть любовник, без которого она буквально жить не может. Но кто этот любовник, он решить так и не мог. В том обществе, в котором они с Сильвией вращались, внешняя оболочка нравов была очень свободной. Сильвия флиртовала со многими, но ни с кем в особенности. Она допускала некоторые вольности, касавшиеся партнеров по танцам или соседей по коктейлю, но эти вольности никогда не выходили за грань общепринятых и не бросались в глаза. Мейседон не знал, что и подумать. И все-таки, еще и еще раз перебирая всех, даже самых далеких знакомых, Мейседон вспомнил наконец о человеке, образ и облик которого сразу вызвали в его душе новую острую вспышку ревности.
СЮРПРИЗ
На следующий день, в десять часов утра, полковник Мейседон под благовидным предлогом ушел со службы и отправился к свободному художнику Роберту Флинну. Флинн не был знаменитостью, но отнюдь не прозябал в неизвестности. Он работал в ставшей теперь традиционной и тривиальной абстракционистской манере, его картины выставлялись и покупались. Художник имел собственный двухэтажный современный дом, к которому по его личному проекту была пристроена традиционная мастерская со стеклянной крышей. Дом этот, по словам самого Флинна, обошелся ему в кругленькую сумму - что-то около сорока тысяч долларов. Однажды Мейседон побывал на парти в этом доме, на очень шумном и очень разношерстном сборище лиц обоего пола. Он был представлен хозяину и любопытства ради заглянул в мастерскую, стены которой были сплошь увешаны только что начатыми, полузаконченными и уже законченными картинами. Роберт Флинн, бородатый здоровяк лет тридцати пяти, ростом поболее шести футов и весом никак не менее двухсот фунтов, был простым парнем, чуждым всех и всяческих условностей. Но за его простецкими, нарочито грубоватыми манерами Мейседон без особого труда угадал тонкую, легко ранимую натуру. Мейседон это понял, когда Флинн демонстрировал в мастерской некоторые из своих работ. Он говорил о них как бы мимоходом, снисходительно-небрежным тоном, называя их "очередная мазня", "самовыражение после ленча", "полуночные страсти" и в этом роде. Но Мейседон, хорошо знакомый с теорией и практикой допросов, обратил внимание на вазомоторные реакции художника, на нервозность его рук. Руки художника, здоровенные, по-своему деликатные, отлично вылепленные и проработанные лапы, не знали ни секунды покоя. Они переплетались пальцами, потирали одна другую, плавали, а то и взлетали в воздух выразительными жестами. Заметил Мейседон и то, как легко соглашается Флинн с замечаниями так называемых знатоков, торопясь при этом расстаться с критикуемым объектом и перейти к следующей картине. Заметил, как оживлялось лицо художника и вспыхивали глаза, когда он слышал не формальные, а настоящие слова одобрения. Полковнику подумалось, что и свою пышную бороду "а-ля Руссос" художник отпустил отчасти для того, чтобы скрыть мимику подвижного лица и таким образом уберечь свои чувства от холодного созерцания чужих глаз.