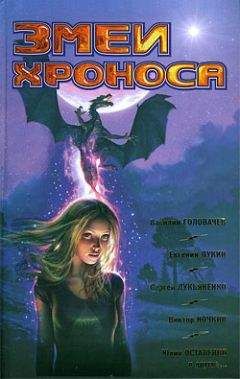– Карл, – подсказываю и продолжаю наседать: – Что за порядки у вас, а? Я ведь всегда был честен – откуда такие подозрения? Я устал, я хочу есть, я весь день провел ТАМ, снаружи, наконец, неужели мне здесь не помогут? Я отдохну и расплачусь. Ленни, ты же меня знаешь!
Верю в этот бред. И похоже, что в него верит и Ленни.
– Но зонт, – робко напоминает о себе первый официант.
Все выжидающе глядят на меня.
– Где твой зонт… Карл?
– Вот он! – показываю сложенную вдвое куртку. – Он там. Я его положил туда. Потому что… потому что мне так захотелось! – с вызовом говорю я.
Те двое с надеждой смотрят на Ленни. Кажется, он старший официант. Сомнение в серых глазах сменяется осмысленностью принятого решения.
Он кивает мне и уводит упирающегося напарника прочь.
И снова кафе наполняется шумными волнами разговоров, и вновь Бен Джонсон поет очередную идиотскую песню.
Рад тебя слышать, старина Бенни!
Я получаю кофе, отбивную, виски, злобный взгляд человека с подносом и как минимум полчаса покоя и сумбурных воспоминаний об этом месте.
И о Ральфе, конечно.
* * *
Зеленые калоши беззаботно ступают по лужам, раз за разом ныряя в дождевую воду и выпрыгивая оттуда верткими лягушками. Высоко в ночном небе, где и в полдень, и в полночь, и в любой час каждого дня от грозовых туч черным-черно, полыхает огонь. Молния, одна из хозяев города, освещает улицу, выхватывая из тьмы и зелень галош, и сверкающую желтизну дождевика, и светлые ручейки волос, выбившихся из-под капюшона. Небесные софиты являют спящему городу и смешной красный чемодан, который волочится по мокрому асфальту, позвякивая немытой посудой, шурша мятыми рубашками, пританцовывая щегольскими, но рваными, коричневыми туфлями.
Таким я впервые увидел Ральфа: Король Свалки и Властелин Дорог, как он в шутку именовал себя, впоследствии изменил меня и мою жизнь, даже не осознавая этого.
Но в ту минуту лишь крик ужаса раздался в ночи.
Ведь я увидел, как желтое чудовище, весело насвистывая неизвестный мотивчик, прыгая по лужам и размахивая непонятной красной штуковиной, несется прямо на меня.
Оно не прячется от губительной влаги.
Оно не выражает униженную покорность повелительному реву грома, не склоняет голову, моля о прощении, пред незримым божеством, сплетенным из всполохов пламени и капель воды.
И у страшилища нет зонта!
Некоторое время чудовище гонялось за мной, чуть дольше пыталось что-то объяснить, придерживая – для надежности, парень! – меня за шею, однако превратилось в Ральфа только тогда, когда, посмеиваясь и качая головой, извлекло из недр чемодана зонтик.
Старый дырявый зонтик с ручкой, перемотанной синей лентой.
* * *
Ральф был бродягой.
Так он сам говорил по крайней мере:
– Я бродяга. И меня это не напрягает, док. Нисколько не напрягает, док – Ральфи всегда спок!
Уж не знаю, с чего он звал меня доком. Ральф вообще редкостный чудак.
Был.
Впрочем, он всех так называл: «Привет, док! Слушай, док. Эй, док, как жизнь?!» А когда я спрашивал, что это значит, довольно ухмылялся, выставляя напоказ желтые зубы, и начинал талдычить что-то о мультиках. Ральф часто говорил странные слова: такси, фотки, копы, Джеки Чан, Рональд Макдональд.
Иногда и вовсе чистую несуразицу бормотал: он это называл отвести душу.
Да, и еще Ральф показывал мне карту.
Где бы мы ни находились – в кафе, в моей квартире на Палм-бич или пункте отдыха, удобной застекленной беседке, коих в изобилии понаставил на улицах «Зонт», – Ральф раскрывал чемодан и, порывшись в нем, вытаскивал прямоугольный кусок удивительной материи, тихо шелестящей и тонкой, несколько грубоватой на ощупь. Бумага, так он называл этот, неизвестный мне, материал.
На карте встречались то разные причудливые линии, то круги, большие и маленькие, то всякие надписи – их было больше всего, – которые мне ровным счетом ничего не говорили.
Огайо. Калифорния. Флорида.
Нью-Йорк. Чикаго. Вашингтон.
Гарлем. Бруклин. Манхэттен.
Это была большая карта, которая с трудом умещалась на столе. И большая загадка, что не помещалась в моей голове.
Еще две детали обращали на себя внимание.
Отдельные кружки – не все, но многие – соединялись между собой корявыми красными линиями. Эти же кружки, сверху или сбоку, были украшены разноцветными каракулями: Ральф называл свои художества туристическим комментарием.
Слямзил совсем новые ботинки у скряги Хэмилда, местного выпивохи. Сукин сын натравил на меня своего пса. Кто ж так поступает с событульниками? (Чикаго)
Отличный виски делают в этой дыре, ей-богу! (Хьюстон)
Вау! Вот это город.
Дерьмо, черт возьми, какое же дерьмо! Повязали копы и вышвырнули отсюда. Ни ногой в этот гадючник! (Лас-Вегас)
Хороша старушка, не то что по ящику смотреть. И факел что надо. Продал те часы, которые нашел в Новом Орлеане, – двадцать баксов, двадцать, ей-богу. Ну, старушка, держись! (Нью-Йорк)
Помнится, я поначалу с любопытством изучал карту, в то время как Властелин Дорог, развалясь на стуле и прихлебывая виски, предавался воспоминаниям:
– Через пару дней чертовы макаронники все же прижали меня. Наводят в Чикаго свои порядки, проклятые итальяшки, – разглагольствовал Ральф. – Мы, американцы, даже толком не можем подзаработать в собственной стране из-за вшивых любителей спагетти. Куда ж это годится?
Я готов был слушать его часами. Он открывал мне новый мир, сколь притягательный, столь и пугающий, мир необычный и многоликий, словно самый невероятный из снов.
Я постепенно избавлялся от гнета темных туч, дождя и молний; воспаряя над тьмой, охватившей город, видел цветущие сады и зеленые газоны. Любовался бескрайними полями кукурузы, где забавное соломенное чучело грозит воронам тряпичными кулаками. Гулял по светлым праздничным улочкам Нью-Йорка в Сочельник. Бродил по горячим пескам Майами-бич, прыгал в голубоватые волны прибоя. И как сумасшедший бежал, бежал наперегонки с жарким полуденным ветром Техаса.
Я ложился спать в Вегасе и встречал рассвет в Милуоки.
Я много чего делал.
И там, куда я попадал, мне подмигивало солнце и улыбалась свобода – дождя и зонтов, что стервятниками садятся тебе на голову, в рассказах Ральфа не было.
Увы, волшебные фантазии не могли полностью вытеснить из головы страх. Ведь рядом с красками и запахами чужого мира раскинулся город: тот город, в котором не поют птицы, не смеются дети, играя в классики на теплом асфальте, и люди, чьи сердца тревожно бьются в унисон со стуком дождевых капель, больше не танцуют на улицах и площадях. Это место, где влага, падающая с небес, не дарит жизнь, а может лишь забрать ее.