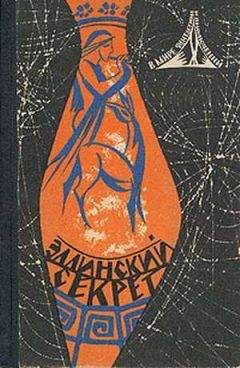Я двинул ферзя. Шах черному королю. И тут же увидел: так нельзя. Еще вчера для меня это был бы единственный очевидный ход. Сегодня я понимал: нет, так нельзя, нападать надо слоном.
…Я долго сидел у доски, стараясь справиться с охватившим меня лихорадочным возбуждением.
Что, собственно, произошло?
Я привык относиться к идеям «великолепной девятки», как к чему-то отвлеченному. Эти идеи должны сбыться в далеком будущем. И вдруг одна идея осуществилась сейчас…
Да, это произошло сейчас. Со мной.
Я почти не умел играть в шахматы. Вероятно, даже третьеразрядник мог дать мне вперед ферзя. И вот внезапно появилась способность понимать происходящее на шахматной доске.
Мозг — изумительная машина. Надо только снабдить ее вдоволь горючим… Не об этом ли Прокшин говорил накануне?..
Лента магнитофона:
«— Какое-то африканское племя выделывало горшки из глины, содержащей уран. Из поколения в поколение лепили горшки. Через руки этих людей прошло такое количество урана, что энергии — если бы ее удалось выделить — хватило бы на электрификацию половины африканского континента. Но племя видело в глине только обыкновенную глину… Почти так мы используем свой мозг. На уровне лепки горшков. А когда кто-то работает как надо, мы изумляемся: ах, смотрите, ах, гений…
Утверждаю: уровень, который мы называем гениальным, — это и есть нормальный уровень работы человеческого мозга. Нет, я не так сказал: не есть, а должен быть. Понимаете?
Люди получают от рождения примерно одинаковые мозги. Не существуют прирожденных способностей. Человек — каждый человек! — рождается только со способностью приобретать способности. Если кто-то может стать гением, значит в принципе гениальность доступна всем. Так почему она такое редкое явление?
С конвейера сходят автомобили. Каждый автомобиль имеет, конечно, свои индивидуальные особенности. Но если скорость данного типа машины полтораста километров, то у всех машин она приблизительно такова. У одной на пять километров больше, у другой на пять меньше, но это уже допустимые отклонении. А с мышлением… Машина, которую мы называем „мозг“, используется в высшей степени странно. Из тысяч таких машин лишь единицы развивают проектную скорость. Остальные довольно вяло ползут… И это считается нормой!
Все дело в том, что автомобили имеют много бензина. А машина, именуемая „мозг“, лишь изредка, имеет вдоволь хорошего — горючего. Я говорю о знаниях. Заправьте достаточным количеством этого горючего любой мозг, — и он даст проектную скорость. Чуть больше, чуть меньше — но у предельной черты!..»
Причудливая это штука — проявление знаний, «вложенных» в голову аппаратом Прокшина. Кажется, я нашел удачное слово: проявление. В самом деле, это очень похоже на постепенное возникновение фотоизображения. Потенциально существующее в фотоэмульсии, изображение еще скрыто, не видно, и нужен проявитель, чтобы сделать его явным. Так и с проявлением знаний.
Какая-то часть знаний вспоминалась — процесс удивительный и временами нелегкий. А иногда я сам принимал решения. Да, хорошо помню, что сам пришел к выводу: нельзя идти ферзем. Представил себе ответный ход черных, увидел дальнейшее развитие игры и понял, что надо ходить слоном. И только потом, сделав этот ход, подумал: конечно, позиция должна быть такой, это же этюд Троицкого! Вот лучший ход черных. Теперь шах ферзем. Черный король спешит к своему ферзю. Поздно! Белые жертвуют слона. Шах черному королю и выигрыш.
Я никак не мог освоиться с мыслью, что действительно чему-то научился. В голове не было никаких «шахматных мыслей». И все-таки я только что разыграл этюд Троицкого, о котором до этого даже не слыхал!
Уже через день, когда значительная часть шахматной премудрости «проявилась», я привык к «эффекту входа» (терминология Прокшина). Теперь я «чувствую» свои шахматные знания. Они «ощущаются» точно так, как и другие знания, полученные обычными путями.
И только изредка сердце замирает от радостного изумления. Так было в детстве, когда, научившись плавать, я впервые заплыл далеко в море…
Прокшин появился без четверти два — мокрый, голодный, веселый — и с порога спросил:
— Сразимся? Одну партию, а? Потом обед и снова до вечера шахматы. Как программа, годится?
Программа годилась, но, сев за шахматную доску, мы забыли о времени. Игра шла в стремительном темпе. Строго говоря, сначала мы даже не играли. Мы просто вспоминали партии. Разыгрывался дебют, и очень скоро один из нас вспоминал, что подобная позиция уже была при встрече таких-то шахматистов на таком-то турнире.
Лента магнитофона:
«— Вы записываете?
— Да. А что, если я пожертвую пешку?
— Зачем?
— Зов души… Послушайте, да ведь так было в четвертой партии Эйве-Боголюбов!..
— Точно. Невенинген, двадцать восьмой год. В этой позиции черные пожертвовали пешку. Вот он, ваш зов души! Знания. В конечном счете только знания!
— А все-таки зачем я должен отдавать пешку?
— Вскрываются линии…
— Эйве мог объявить шах конем, но сделал другой ход…
— Да, более осторожный. Слоном.
— Что ж, проверим…»
С каждым часом мы играли все увереннее и самостоятельнее. Стали чаще замечать просчеты, допущенные кем-то в аналогичной позиции. Искали и находили более сильные продолжения. Игра обогащалась мыслями и чувствами, начинала доставлять эстетическое наслаждение.
Что я обычно чувствовал, играя в шахматы? Досаду — если не заметил хороший ход. Страх — если допустил ошибку и противник может ее использовать. Радость-если противник «зевнул» фигуру. И еще скуку, томительное ожидание, пока противник сделает ход и можно будет снова начать думать… Убогие чувства! Я был подобен слепцу, сидящему перед сценой, на которой выступают иноземные артисты. Слепец не видит артистов, да к тому же они говорят на чужом языке, из которого он знает лишь несколько десятков слов… И вдруг глаза обретают способность видеть каждое движение артистов, каждый их жест. Вдруг со сцены начинает звучать родной язык, наполняются, смыслом интонации и паузы…
В восемь вечера мы пообедали: консервы, холодное молоко и еще что-то. Мы спешили. Нас ждала недоигранная партия.
Сейчас я не могу вспомнить, когда началась «ничейная полоса».
Я не сразу понял, что означают участившиеся ничьи. Казалось, ничьи закономерны; мы играем, обсуждаем позиции, видим возможные ошибки (и, естественно, их не делаем), выбираем наиболее сильные ходы — и с какого-то момента партия идет к ничьей.
Прокшин первым заметил «ничейную полосу» и предложил играть молча. Мы быстро разыграли три партии. Три ничьих.