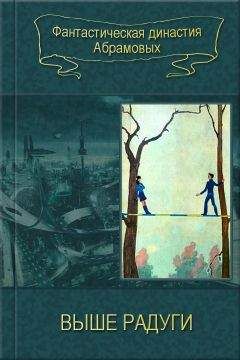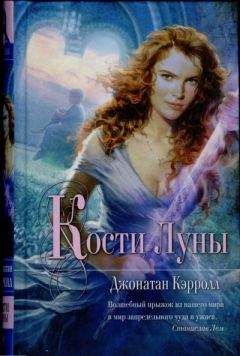И вопрос последовал, как и подобает по этикету, сначала несущественный, мимоходный:
— Ты уже побывал дома, мой Марцелл? Что же ты молчишь, как клиент у патрона, любящего понежиться до полудня? Или недоволен своим управителем? А я уже хотел послать именно из твоих мастерских кожу для седел в конюшни Цезаря. Говорят, в преторианской гвардии они идут на вес золота? А мне помнится, что ты купил здесь несколько кожевен и гноильных чанов близ мясного рынка.
— Они пусты, мой Вителлий, — ответил Марцелл. На правах друга и претора по званию он не титуловал губернатора.
— Почему?
— Рабы-христиане ушли в пустыню.
— Опять христиане, — поморщился Вителлий. — Что-то слишком уж часто они напоминают о себе за последние годы. Десять лет назад никто даже не слыхал этого слова. Христиане… — задумчиво повторил он. — Откуда взялось оно? Что означает?
— Ничего, мой Вителлий. Это поборники некоего Хрестуса из Назарета, пророка, который якобы называл себя сыном Божьим.
— Хрестус? — переспросил Вителлий. — Не слыхал. Рабское имя. Пятеро из любой сотни рабов — Хрестусы. Позволь, позволь, — вдруг оживился он, — ты, кажется, сказал: из Назарета? Так нет же такого города в Палестине. Еще один миф. — Он пожевал губами и спросил: — Почему же ушли рабы?
— Они верят, что тяготы жизни в пустыне приведут их души в Элизиум, созданный Богом.
— Богами, Марцелл.
— У них единый Бог, проконсул.
— Старо, — вздохнул Вителлий. — Еще Платон в Греции проводил идею единобожия. С тех пор она создает только распри жрецов и священников. Дай им принцип, они возведут его в догму. И побьют камнями всякого, кто попытается изменить ее. Кто их пророк, Марцелл?
— Безумный Савл, здешний ткач, между прочим. Из Антиохии. Почему-то — мне неясно, кто просил за него, — ему дали римское гражданство. Теперь он именует себя Павлом.
— Слыхал о нем, — снова поморщился Вителлий, — мутит народ исподтишка. Опасен. Я уже два раза приказывал арестовать его, но он успевал скрыться в Египте. Сколько я их видел на своем веку, таких лжепророков и горе-фанатиков, из легенды творящих догму, а из догмы — власть.
— Они проповедуют смирение, мой Вителлий.
— Проповедуя смирение, порождают насилие.
Проконсул замолчал, подбрасывая большим пальцем ноги мелкую гальку атриума. «Кажется, я понимаю, почему нас ввели в этот спектакль, — подумал Рослов. — Разговор за обедом у Келленхема, визит к Смэтсу — и вот из наших складов памяти извлекается догма о Христе, до которой нам, в сущности, нет никакого дела. Но Невидимка, должно быть, заинтересован. Интересно, чем? Мифом о Христе или источником христианства? Любопытно, что Семка думает?»
Рослов знал, что Шпагин подключен к Марцеллу точно так же, как он сам к Вителлию. Не догадывался, не подозревал, а именно знал, хотя почему — неизвестно. И тут же «услышал» ответ, беззвучный отклик в сознании, подобно вторжению столь же беззвучного Голоса:
— Ты, оказывается, меня только мысленно Семкой зовешь, а так все Шпагин да Шпагин. Как в школе. Не подобает иначе докторам наук. Угадал? Нужно было в Древней Сирии очутиться, чтобы научиться чужие мысли читать.
Рослов пропустил мимо реплику о Семке.
— А ты сообразил, что мы в Древней Сирии?
— За меня Марцелл сообразил. С пяти лет, когда его, как патрицианского отпрыска, отдали в обучение к греку Аполлидору.
— Вжился? Я тоже. В одно мгновение, между прочим. Вся жизнь этого римского полубога у меня закодирована. К сожалению, не могу ткнуть пальцем в лоб, чтобы показать, где именно закодирована. А мы, представь себе, не отключены.
— Так он же предупреждал, этот Некто невидимый. Отключил мозолистое тело — и привет.
— Что-что?
— Тоже мне математик, приобщившийся к биологии! Так это же нервная связь между полушариями мозга.
— Я не расслышал. Отключение, кстати, одностороннее. Я слышу Вителлия, вижу его отражение в ложе фонтана, а он меня — нет. Зато я не в состоянии проверить реальность этого мира. Он может, а я — нет. Вдруг все это только мираж?
— Смотри. Марцелл оперся рукой о мрамор скамейки. Холодный, между прочим. И гладкий. Оба чувствуем. А теперь — опустил. Рука дрожит.
— Возвращаю комплимент, биолог. Эта дрожь называется тремором.
— Давай по-человечески. Просто волнуется. Интересно, зачем твоему Некто эта экскурсия в Древнюю Сирию?
— Опыт дистанционной передачи информации, заключенной, по-видимому, в этой квазиисторической ситуации.
— Ошибаешься, — вмешался Голос. — Не квази, а действительно исторической. Прислушайтесь и внимайте.
«Кажется, мой Марцелл действительно прерывает молчание», — принял Рослов мысль Шпагина и тотчас же услышал железную латынь соратника и друга проконсула. Тот был тоньше, суше и подвижнее Вителлия, и Рослов даже позавидовал, что Шпагину достался более совершенный образец древнеримской породы.
— Позволь мне перебить твои думы, мой Вителлий. Ты, кажется, сказал: Хрестус — миф. Еще один миф. А ведь этот миф рожден не без участия Понтия.
— Не понимаю.
— Молва говорит, что он казнил сына Божьего.
— Когда?
— Семь лет назад. Незадолго до восстания в Тивериаде и Кане.
— Вздор, — отмахнулся Вителлий. — Тогда был повешен Варавва, убийца императорского курьера. Я хорошо помню это, потому что Понтий сам отправил донесение Тиберию. Но я перехватил его и оставил только сообщение о галилейской смуте.
— Жаль, что умер Тит Ливий, — вздохнул Марцелл. — Какую чудесную главу написал бы он о превращении разбойника в сына Божьего. Но у меня в Риме есть Цестий, который тоже записывает все достойные памяти события в империи. Пусть реабилитирует неповинного прокуратора. Все-таки он не казнил пророка, которого не было.
— А зачем? — вдруг спросил Вителлий.
Марцелл подождал, пока проконсул ответит сам.
— Он уже не прокуратор, Марцелл. С этой минуты. Ты собрал все сведения о восстании самаритян?
— Все, мой Вителлий. Оно уже подавлено.
— Это не облегчает положения пятого прокуратора Иудеи. Не смуты и раздоры укрепляют величие Рима, а мир и благоденствие в границах империи. Пусть сам едет объясняться с Тиберием.
— А его место?
— Займешь ты. А главу о казни пророка, приписываемой Пилату, потомки не прочтут ни у Ливия, ни у Цестия. О последнем уже ты позаботишься. Зачем исправлять молву, если она обижает негодного. Пусть обижает.
Марцелл встал и молча поклонился Вителлию.
«А историю оба все-таки обманули, — тотчас же сигнализировала Рослову мысль Шпагина. — Пустили неопровергнутый миф на свободу, как бактерию из разбитой колбы. Только непонятно, зачем нам демонстрируют эту историческую гравюрку? Мы и так знаем, что миф — это миф».