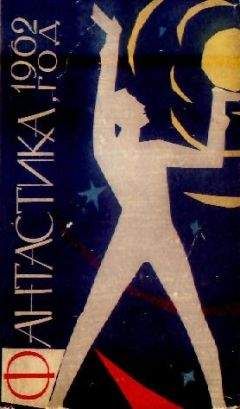Я отвечаю:
— А почему бы нет? Идея неплохая.
— Неплохая, но не современная. Что мучило гетевского Фауста? Что не давало ему покоя? Мысль о невозможности безусловного абсолютного знания.
— Мне бы его заботы.
— Не отшучивайтесь и выслушайте. Гёте работал над “Фаустом”, когда крупные ученые, подобно Лапласу, мечтали о емкой формуле, способной объять весь мир. В непокое Фауста, дорогой философ, в непокое Фауста, мечтавшего о безусловном и абсолютном знании, много общего с непокоем Лапласа. В наше ВреМя ученые уже не страдают тем, чем страдали Фауст и Лаплас, не мучаются от сознания невозможности абсолютного знания. Они понимают, что вселенная настолько богата частностями, настолько разнообразна, что ее нельзя объять одной формулой. Они знают, что каждое событие вовсе не предопределено заранее…
— Как это думали механисты, — перебил я.
— К черту механистов! Не в них дело… Не знаю, как вы, дорогой философ, но в молодости и я мечтал об абсолютном знании. Я тогда не был знаком ни с теорией вероятности, ни с квантовой механикой, я думал, что можно вместить в формулу весь мир… Но, друг мой, если нам удастся реализовать нашу дерзкую идею, наш парадоксальный замысел, мы подойдем почти к абсолюту.
— Почти? По-видимому, все дело в этом “почти”?
— Да, в этом главная особенность современной науки. Без “почти” нельзя познать мир. “Почти” это то, что дает ускользнуть абсолюту в той игре, которую ведет человеческое познание с действительностью. Оно связывает абсолютное с относительным, в сущности, странной для всякого рассудка связью. Мир неисчерпаем и богат неожиданностями. Разве не будет неожиданностью для науки, если мы докажем, что смерть — явление вовсе не абсолютное, что организм можно оживить. Мы освободим человека от железного детерминизма времени, развременим его, откроем перед ним безграничный простор.
— Но пока речь идет ведь не о человеке, — сказал я, — а всего только о белой мыши. Это ей, с вашего позволения, будет дано интимно познакомиться с будущим, перескочив через настоящее. Анабиоз! Не совсем, впрочем, удачный термин. Жизнь с перерывом, с длинным антрактом, антрактом на несколько столетий…
— Вы забыли о том, что опыт, сколько бы он ни длился, не должен пережить экспериментатора. Откуда я буду знать, что вот эта самая белая мышь проснется после своего затянувшегося на несколько столетий сна?
— Да, об этом я забыл.
— А может, она не проснется. Не победит время…
Еще будучи студентом, я страстно стал интересоваться проблемой времени. Меня удивляло, что все мои знакомые, и умные и неумные, вовсе не рассматривали время как проблему. Они смотрели на часы с таким видом, словно часовые и минутные стрелки возникли и появились на свет вместе с самим временем.
Им не приходило в голову, что у времени нет начала и не будет конца. Их жизнь шла в одном ритме с ходом часов. Время и они, живущие, составляли одно целое. Ведь рыба, плавая в воде, вероятно, считает, что она движется в пустом пространстве…
В ту зиму, когда я так много думал о времени, я познакомился с теорией относительности. Меня поразила мысль Эйнштейна, его видение мира. Эта дивная и мощная мысль выхватила меня из окружающей обыденной жизни и унесла с собой в космос. Я увидел Землю как бы со стороны, из космоса. И тут передо мной возникла другая проблема, уже не теоретическая, а практическая. Человеческая жизнь коротка, как же человек станет хозяином времени и пространства?
— Но однако же, — прервал я Обидина, — вы стали заниматься не физикой и астрономией, а биологией, анабиозом, вы взяли себе в учителя не Циолковского и Эйнштейна, а профессора Бахметьева и Петра Юльевича Шмидта.
— Бахметьев ближе к Циолковскому, чем вы думаете. Один дополняет другого. Имейте терпение, философ, слушайте меня не перебивая. Природа хорошо вооружила организм для борьбы с суровой средой. Но человек вооружает сам себя. Тридцать тысяч лет, от верхнего палеолита до эпохи кибернетики и атомной техники, шла борьба с природой за овладение окружающей средой. Но что такое время? Это тоже, в сущности, среда. Оно существует в неразрывном единстве с пространством. Нельзя покорить пространство, не победив время. Но кто-то из физиков, кажется Умов, сравнил жизнь человека с заведенными часами. Восемьдесят лет жизни! Что это по сравнению с миллионами световых лет! И вот мне, тогда еще студенту-биологу, пришла почти сумасшедшая мысль: использовать те закономерности, которые выработала природа организма для преодоления среды в борьбе со временем, для победы над ним. Жизнь прерывна, это доказывает анабиоз… Изучить закономерности прерывности жизни, доказать, что обмен веществ вовсе не равен жизни, а затем победить время. — Обидин рассмеялся. — Как вам нравится эта идейка?
— Услышал бы вас Чемоданов! Он давно обвиняет вас в поисках абсолюта.
— Я как раз о нем подумал! На заседании Ученого совета не далее как вчера, когда обсуждали перспективный план научно-исследовательских работ, он заявил, что деньги, отпущенные на наши исследования, это все равно… и при этом сделал жест, сложил губы и — фукнул с таким видом, словно эти денежки уже вылетели в трубу. Но Чемоданову в этот раз не повезло. Кто-то из наших хозяйственников напомнил ему о шести сотнях яиц, отпущенных на опыты его группы.
— А что случилось с этими яйцами?
— Ничего. Поговаривают, что Чемоданов их съел.
— Завидный аппетит!
— А, по-моему, он правильно распорядился этими яйцами. Превратил их в свою плоть и кровь. Хорошая яичница лучше плохого эксперимента. А какой из Чемоданова экспериментатор? Он теоретик. Плохой. Не талантливый. Но все же теоретик. Пишет статьи по философии естествознания.
— Не каждого, кто пишет статьи, можно называть теоретиком.
— Вы хотите отказать Чемоданову во всем. Он и не практик. Он и не теоретик. А кто же он?
14
Как выяснилось, у моего гостеприимного хозяина было две профессии. Крупнейший исследователь, биоэнергетик и биофизик, он совмещал свою научно-исследовательскую работу, и теоретическую и экспериментальную, с непритязательной должностью лесного обходчика. Сторож, или, как в мое время называли, лесник. Вот чем он занимался, поселившись на берегу Катуни.
Сообразно этим двум занятиям распределялось и его время. Проведя сорок пять минут в машине быстрого движения, Павел дома задерживался недолго, переодевался, обедал и уходил в лес.
Что он любил больше — теоретические проблемы или лесные тропы? Трудно сказать. Вероятна, то и другое в равной мере.
Иногда он и меня брал с собою. Я надевал соответствующий костюм. Его костюм. Мы были одного роста и одинакового сложения. Специально предназначенный для этого робот помогал мне одеться.