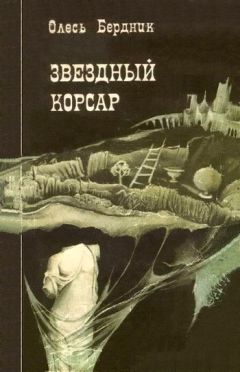С камня на камень. Между травами, цветами. Извилистой тропкою-змейкой. А вокруг — горы-волны скалистого моря, а над ними — сизо-прозрачные шарфы туманов.
Вспыхнул алым пожаром восток. Еще не видно светила, а уже ударила огненная стрела в снежную шапку Говерлы. Заискрилась вершина, взвеселила сердце радугой цвета. Казалось, будто некий игривый великан зажег над Карпатами сказочный костер-ватру.
Начал ораторию в небе незримый орган. Подхватили величальную песню легионы птиц.
Завибрировал, отражая стоголосое эхо, купол ясно-лазоревого неба.
— Быстрее, быстрее, Богданку, — подгоняла своего друга Леся. — Хочу встретить солнышко на вершине!
— Тогда надо было захватить левитатор, — усмехнулся Богдан. — Взлетели бы за несколько минут на любую вершину!
— Неинтересно. Теряется чувство преодоления, — ответила жена. — Преодолевая тяготение усилием мускулов, дыхания, напряжением сердца, ты словно приобщаешься к чувственному и эмоциональному миру предков. Помнишь, как в древней песне: «З верха на верх, а з бору в бiр, з легкою в серцi думкою!..»
— Как сильно и точно сказано! — подхватил Богдан. — Как поэтично! У нас теперь занимаются стихоплетством почти все, но ощущают ли они так предвечно просто?
Леся не ответила. Они уже выбрались на вершину. Небольшая площадка освободилась от снега, посреди нее в розовосолнечной дымке высилась прославленная в целом мире скульптурная группа, созданная век тому назад молодым украинским ваятелем Гнатом Байдою, погибшим в расцвете дарования.
Держа жену за руку, Богдан замер от восхищения. Затем они обошли пьедестал.
Остановившись, долго всматривались в лица Матери с Дитем, которые сидели в центре группы. Тревожные и вдохновенные очи, тонкие, чувствительные пальцы поэтессы, художницы, жницы, возлюбленной. То был вековечный образ Матери-Украины — девы-воительницы, которая сквозь пыль веков, сквозь бури исторических, социальных и общественных катаклизмов передала в космическое далеко, в звездное грядущее, свое живое сердце, песню, сказку, волю к бытию, заветы лучших своих сынов-созидателей. Возле ног ее — с левой стороны — Тарас. Он склонил голову на ее колено, закрыв глаза. Но такое мастерство, такая творческая жажда водила рукою Вайды, что все лицо Кобзаря стало всевидением — оком Духа. На его устах замерла блаженная улыбка, в ней слушалось беззвучное слово: «Когда Матерь бодрствует, сыну можно отдохнуть. Но я готов снова прийти, Мама. Ты только позови меня — я вернусь!»
С правой стороны от Матери — Леся. Горный трепетный и гордый подснежник, который не может жить и дышать в знойные буйнолистые летние дни, но любит суровые морозные периоды ранней весны. Рядом — Каменяр. Узловатые руки сложены на коленях, тело неподвижно, а за высоким челом — напряжение огненного вулкана мысли и чувства.
Еще и еще фигуры — концентрическими кольцами — окружают Матерь-Деву, породившую их в муках творческого искания и направившую детей своих к вселенским горизонтам.
Леся и Богдан склонились перед Матерью в низком поклоне. Жена прошептала:
— Благослови нас, любимая, в дальний путь. Хотим сохранить твою искру в безднах вечности. Хотим не забыть твоих мук и любви.
— Не забудем, — молвил Богдан. — Пуповина рвется, но дитя в крови несет ее суть и наказ.
Они отошли от скульптурной группы вдохновенные, успокоенные, счастливые. Сели на камне — лицом к солнцу.
— А тебе не тяжело, Богданку, оставлять Землю? Родной край? Скажи — ты не сомневаешься в своем решении?
— Еще как тяжело… — Ясно-карие глаза Богдана потемнели. — Нас вечно разрывает между двумя полюсами тяготения: один — зов правечности, голос прадедов, уют детства; другой — призывная труба тайны, веление сказки, требование новых горизонтов. И то и другое — воля Матерей, воплощенная в нас. Не всегда матерь тела и матерь духа согласуются между собою, но истина там, где зов тайны…
— Это правда, — кивнула Леся, доверчиво взглянув на друга очами-незабудками. — Дни детства — волшебство, но звезды разве напрасно вспыхивают в ночном небе? Они зовут в вечность…
Богдан обнял ее за худенькие плечи, вдохнул хмельной запах пшеничных волос, волнистым потоком ниспадавших на спину. Она осторожно освободилась из его объятий, стала на камне, протянув руки к солнцу. И замерла.
— Вижу, в тебе грусть по Земле гнездится еще глубже, нежели во мне, — сказал Богдан. — Да и не только по Земле… По Солнцу… Ты ведь Солнцепоклонник…
— Что человеку нужно? — печально отозвалась Леся, окинув взглядом горную панораму. — Почему в ней — такой небольшой — посеяно болезненное зерно вечной творческой муки?
Богдан не ответил. Взяв жену за руку, помог соскочить с камня и повел ее к тропинке.
— Пора. Времени мало, любимая.
Спускались быстрее. Над полонинами плыли туманы, покрывая травы и цветы самоцветами росы. С правой стороны звенел радужный водопад, тихо журчали из-под талого снега струйки воды, даруя жизнь подснежникам — лазоревым очам земли.
Там, внизу, уже бушевало лето, а тут, над альпийскими лугами, только начиналась ранняя весна.
Леся смеялась, радуясь тому, как Богдан уже в сотый раз бросается с тропинки в сторону, склоняясь над каким-нибудь розовым или белым цветочком.
— Если бы теперь тебя увидели твои поклонники, сомнительно, узнали бы они знаменитого космонавта, известного по телевизионным передачам?!
— Ах, Леся! — словно в забытьи отвечал Богдан. — Я теперь не космонавт. Я — младенец! Милая, если бы навсегда сохранить эту неповторимость, эту красоту. И вот такое чувство, как у меня сегодня!..
— Ты сохранишь, — серьезно ответила Леся. — Я это знаю. А сохранят ли они?
— Кто? — удивился Богдан.
— Те… кто под моим сердцем… Они уже живут — двое твоих сынов. Войдет ли в их душу тревога и радость сего дня?..
Ночевали в Криворивне, над Черемошем. Над мемориалом Франка пламенели радужные зарницы, где-то между горами гулко катилось эхо праздничных песен, приветливо мерцали звезды-огни в домах гуцулов на склонах гор. Богдан сладко дремал в палатке, устав от дневного похода к Говерле, а Леся неутомимо прогуливалась над рекою, вздыхала, глядя на звездное диво небосклона, чутко вслушивалась в тревожную речь Черемоша. Родник души гармонично вливался в течение воды и раскачивался, струился поэтическими строками, в коих были и предчувствие вечной разлуки, и печаль по утрачен ному, и надежда на неведомое, небывалое.
В тихой дреме Карпаты,
Спит и сердце мое…
Но уснуть Черемошу
Шум воды не дает.
Среди сумраков ночи
И на миг не молчит,
Бурунами клокочет
И камнями гремит.
Повторяет преданья
Из младенческих снов:
Песни, словно рыданья,
И легенды веков.
Ждет своих бокорашей
С дальних гор, с высоты,
Но в мелеющих водах
Не проходят плоты.
А Говерла грохочет:
— То, Черемош, лишь сны!
Не рыдай среди ночи,
Ожидая весны!
Дам тебе я водицы
В легендарной судьбе,
Звездоносные дети
Поплывут по тебе.
От плаев Верховины,
Там, где сказочный лес,
Полетят в Мирозданье
Бокораши небес!..
«Правда, правда, — встрепенулось сердце Леси. — Надо преодолеть предвечную печаль прошлого. Нет его, не вернется. И разве не мужество древних бокорашей-плотогонов, разве не бесстрашие опрышков и казаков, разве не их мудрость и песенность с нами летит к иному солнцу? Разве не их бессмертие будет жить в моих детях, ходить по тропинкам дальних миров, подниматься к вершинам неведомых гор?»