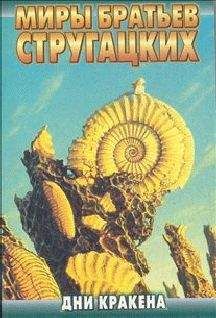— Да, — тупо сказал я.
— Ты давно в Москве?
— Давно. Уже лет пять… нет, шесть лет.
— И ни разу не зашел. Эх ты. А еще старый друг.
— Я не мог.
— Неужели так занят?
— Я никак не мог, Ниночка. Честное слово. Никак не мог.
— Нельзя забывать старых друзей.
Так могла сказать и Юля Марецкая. Но ведь мы встретились. Она не отвернулась. Она могла кивнуть и отвернуться. Могла даже не кивнуть. Но вот мы стоим в тридцати сантиметрах друг от друга и разговариваем, и она разглядывает меня, выпятив нижнюю губу. Она всегда так делала, когда была озабочена.
— Андрюша, — сказала она почти с испугом, — ты совсем седенький стал!
— Это от веселой жизни.
— Что, неужели так плохо?
— Отчего же плохо? Просто трудно.
— Работа?
— И работа. И всякие другие вещи.
— Бедненький.
— И возраст, Ниночка.
Она вздохнула.
— Да, возраст. Ну, а я?
— Что?
— Я сильно изменилась?
Я помотал головой. Она обрадовалась.
— Нет?
— Ничуть.
— Правда?
— Честное слово. Ты прелесть и женщина.
Не знаю, как это у меня вырвалось. Но она либо забыла, либо не обратила внимания.
— Как приятно слы-ышать! — сказала она. — Только не очень-то завидуй, Андрюшенька. Это наполовину косметика. Парикмахерская, кабинет красоты.
— Неправда.
— Правда. У меня тоже очень утомительная жизнь. Хлеб свой насущный снискиваю в поте лица. И души, между прочим.
— Не сердись, — попросил я. — Я только хотел сказать, что ты совсем не изменилась.
— Я стараюсь. Но знал бы ты, как это трудно, Андрюшка!
Она нагнула голову. Некоторое время мы молчали, и я смотрел, как от моего дыхания шевелятся отставшие волоски на ее макушке. Она подняла лицо.
— Глупости, — сказала она решительно. — Все это глупости. Работа есть работа. Я что-то расклеилась сегодня. Слушай, я тебя не задерживаю?
— Что ты, конечно нет.
— Разве ты здесь один?
— Где — здесь?
— В ресторане. Я думала, ты вышел из ресторана. Нет?
— Вовсе нет. В ресторане я не был. Имеет место на редкость одинокий Головин, который как раз собирается поужинать. Разреши пригласить тебя, Ниночка.
— Я бы с радостью, — сказала она, — но не могу.
— Почему?
— Во-первых, я только что ужинала.
— А во-вторых?
— Понимаешь, Андрюшенька, мне пора домой. Одиннадцатый час.
Я оглянулся на часы над гардеробом. Было пять минут одиннадцатого.
— Тогда разреши проводить тебя.
— Проводи, — просто согласилась она. — Это недалеко, да ты помнишь, наверное.
— Помню, — пробормотал я.
Мы вышли из гостиницы, повернули направо и медленно пошли по Садовому. Нина жила на улице Алексея Толстого.
— Где ты работаешь? — спросил я.
— В «Интуристе».
Она взяла меня под руку. Я чувствовал сквозь рукав, какие у нее горячие и твердые пальцы, ее юбка задевала мое колено, и я опять, впервые за долгое, долгое время ощутил великое чудо и великую прелесть женщины, прелесть женского голоса, женских интонаций, и мне было необыкновенно хорошо.
— Ты со мной не шути, — сказала она. — Я старший гид-переводчик, вот кто я.
— Ты прелесть и женщина, вот кто ты, — сказал я на этот раз умышленно. Она промолчала. — Ты работаешь с японским?
— Что ты, с английским, конечно.
— Забыла?
— Начисто. Корэ-ва кабан дэс. Больше ничего не помню.
— Не жалко?
— Не знаю. Пожалуй, жалко. Слушай, Андрюша, ты встречаешь кого-нибудь с нашего курса?
— Очень редко. Майского вот встречаю. Помнишь Петю Майского?
— Майский, Майский… Он ведь турок?
— Почти. Арабист. Орлов в министерстве иностранных дел, Мишенька Сегал в радиокомитете, он недавно был у меня. Кстати, а не помнишь ты Юлю Марецкую? Она училась на два курса позже нас.
— Марецкую? Комсорга? Ну как же, очень хорошо помню. Она была такая беленькая, хорошенькая, очень серьезная и не умела одеваться.
— Вот, вот. Она сейчас работает в том же издательстве, что и я.
— Нет, Юлю Марецкую я хорошо помню. Году в пятидесятом я отказалась подписаться на заем, и мы с ней немножко повздорили. Она назвала меня девкой и антисоветской сволочью и сказала, чтобы я не смела заходить в уборную на нашем этаже. Сказала, что уборной имеют право пользоваться только честные студентки.
Я остановился и заглянул ей в лицо. Она спокойно улыбалась.
— Ну что ты остановился? Не веришь? Правда, правда. Я ее не послушалась, потому что, ты сам понимаешь, деваться мне было некуда. Но я весь месяц тряслась от страха, что меня лишат стипендии. Это у меня была полоса неприятностей. Нас обворовали, умерла мама, Наташка заболела скарлатиной, и, боюсь, я вела себя немножко нервно. Господи, как давно это было!
Юля Марецкая могла отколоть и не такое, но я понятия ни о чем не имел. Должно быть, это случилось до того, как Нина пришла за конспектами в нашу комнатушку под крышей. Я писал письмо в Ленинград, Петька Майский валялся на кровати и делал вид, что читает Коран, а Миша Злобин брился, и тут к нам несмело вошла Нина, ведя за руку крошечную смуглую девочку с носом-пуговкой.
— Нина, а что Наташа? — спросил я.
— Наташке пятнадцатый год, представляешь? Растет ужасно, скоро меня догонит. Мой домашний тиран.
— Ты замужем?
Она засмеялась.
— Что ты, Андрюшенька, я ведь убежденная мать-одиночка. И потом зачем мне благодетели?
Мы медленно шли мимо скамеек под липками, где сидели старички в парусиновых фуражках и старушки в диковинных капотах.
— А ты? — спросила она с любопытством.
— Я развелся.
— Бедняжка.
— Да. Сирота.
— Детей, конечно, нет?
— Почему — конечно?
— Ну, это же видно.
— То есть?
Она пожала плечами и нагнула голову.
— Почем я знаю? Просто видно, и все.
— Она не хотела ребенка, — сказал я. — Не то боялась, не то считала, что рано. В общем, все получилось к лучшему.
— Всегда все получается к лучшему.
— Надо надеяться.
Она держала меня под руку и смотрела вниз, старательно ступая в ногу со мной. На ней были светлые остроносые туфли на высоких каблуках. Вот отчего она показалась мне выше ростом. Прежде она никогда не носила туфель на высоких каблуках. Тук… тук… тук… — стучали каблуки по асфальту.
— Ты ее любишь?
— Нет, — быстро ответил я. Затем добавил: — Когда-то думал, что люблю. А теперь нет. Ни капельки.
— Молодец. Если это правда, конечно.
— Это правда.
— Вы давно разошлись?
— Давно. Я вернулся с Сахалина, и она от меня ушла.
— А что ты делал на Сахалине?