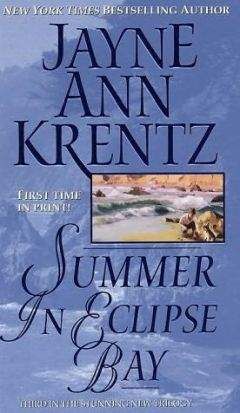- Ну, поведем теперь хоровод! - улыбнулась Светолия.
И вот все кто могли взяться за руки, встали в круг, и закружились, поя громкие трели к самому небу; те же, кто не мог встать с другими, как, например, пеньки и облако, остановились в центре круга; облако издавало тонкое, похожее на хрустальный звон пение, а пеньки осторожно и умело били по льду своими корнями - разносилась мелодия небесных колокольчиков, а золотые паруса, смеялись, быстро и плавно перекатывались... Сережа тоже смеялся, пел как мог громко; несся со всех сил вместе с хороводом, и чувствовал, как прекрасен лес, как прекрасна весна - он об этом и пел, не задумываясь над словами - он просто был счастлив и свободен...
Вот раздался голос, словно тревожный красный лепесток, стремительно пронесся в воздухе:
- Идут...
Хоровод замер, костер в центре птицей взмыл в небо, а лесные обитатели, сжавшись, став незаметными, призрачными какими-то, побежали в разные стороны. Растворились в солнечных лучах птицы с девичьими головами, розовое облако растворилось среди деревьев, великан заросший мхом - леший, обратился старым ясенем, а пеньки замерли, пристроились неподалеку; белые мыши с добрыми золотыми глазами вдруг запряглись в карету из солнечного света, которая появилась возле Светолии.
- Сюда идет какой-то человек. - вздохнула Светолия. - Я помню времена, когда этого не стоило опасаться; такой человек уселся бы на краю этого озера да в спокойствии иль в восторге полюбовался на наш танец... Прощай, и приходи завтра, я покажу тебе подземные хоромы, а белые мыши расскажут тебе какую-нибудь историю.
- Может сегодня? - Сереже уж очень захотелось прокатится на карете из солнечного света, увидеть что-нибудь еще волшебное, чистое - а возвращаться в город, смотреть на машины, на стены...
- Тебя ждут дома, не забывай. - молвила Светолия и взошла, растворилась в солечносветной карете. Белые мыши легко понесли ее по льду, и только закрылись ветви берез, замерших в вековом хороводе вокруг дуба на острове, только скрыли за собой этот ласкающий сердце свет, как Сережа остался один.
На берег озера вышел человек; взглянул на двенадцатилетнего Сережу, огляделся по сторонам, почесал в затылке, еще раз взглянул на Сережу, да и пошел своей дорогой.
Мальчик подошел к пням, потом к великану-лешему, обратившемуся ясенем, но они стояли безмолвно и на все просьбы Саши рассказать что-нибудь отвечали молчание.
Тогда мальчик повернулся и пошел к дому.
Он шел через поле все уже просеченное темными прогалинами, все поющее мириадами ручейков; он смеялся - сердце его смеялось, и это было такое прекрасное чувство!
Но потом, по мере приближения к городу, смех его увядал: он слышал уже его утробный рев; он слышал надрывный скрип машин зачем-то спешащих по мосту, он слышал отдаленный гул толпы; видел трубы заводов, угрюмых, ржавых, уродливых и злых, испускающих в небо бледно-желтые, мертвые клубы; он даже уловил запахи разложения, словно что-то громадное, медленно умирающие, истекая гноем, отравляло все кругом, но никак не умирало окончательно, а все продолжало агонизировать, набираться новых сил для гниения, да затопления всего окружающего своим ржавым и бледно-желтым гноем...
* * *
На следующий день его отправили в школу - эта школа, в которую, за немалую плату устроил его отец, находилась в небольшом, уютном особнячке, окруженным старым парком. В школе, на мраморных стенах еще сохранились изображения играющих на арфах муз, кружащих возле них амуров, или ангелочков. В просторных, светлых помещениях, за белыми, пластиковыми партами мерно гудели новенькие компьютеры и розовощекие, полные детишки изучали на них основы русского языка, и потом, сразу, основы компьютерного программирования и основы экономики, которая, в основном, и должна была изучаться в дальнейшем.
Если бы это была простая школа, так Сережа сразу повернул бы в лес, но школа была коммерческой и директор лично контролировал посещаемость, часто беседовал с богатыми родителями, а с Сережином отцом и вовсе был в дружеских отношениях (он присутствовал на пьянке в первый день весны) - так что, прогулять занятия никакой возможности не представлялось.
Погода же стояла замечательная; весь парк журчился, золотился; там перелетали с ветки на ветку птицы, где-то радостно залаял пес... что за мученье сидеть в такую погоду в классе, перед блеклым, неживым монитором; слушать что-то про счет денег, про биржи, и еще многое, чему (как говорила молодая учительница) им всем предстояло обучится в дальнейшем.
Сережа с тоскою смотрел в яркое окно, вздыхал, вспоминал Светолию, хоровод, Лучезара, Березу, Светлицу и других живших где-то там вдали, и в результате получил двойку за контрольную.
Да что эта двойка?! С сияющим лицом выбежал он из особняка, понесся, разбрызгивая хладное, водное злато, по аллеям; уже зная, что через полчаса запыхавшийся, но счастливый будет стоять перед Светолией, а она познакомит его с белыми мышами и расскажет еще что-нибудь прекрасное.
До выхода из парка оставалось несколько секунд бега, как он услышал жалобный писк, с одной из боковых аллей. Он резко обернулся увидел: компания, человек пять, старшеклассников, все полные, одетые в новенькие блестящие яркими цветами курточки, все краснощекие, лоснящиеся от сытости, сгрудились возле мраморной статуи изображавшей нимфу державшей в одной руке арфу, а другую руку только поднося к этой арфе. Сережа любил эту старую; так многое на своем веку перевидавшую статую. Сейчас на ней яркими красными и зелеными буквами появились чьи-то имена и нецензурные слова, однако Сережа, смотря на эту статую не видел этих ярких, безжизненных цветов, он видел только нимфу, чуть печальную и словно живую, жаждущую что-то сказать ему.
И вот теперь там сгрудились пять массивных фигур старшеклассников - они то были чуть ли не на две головы выше Саши.
Один из них обернулся, увидел Сережу, прищурился своими выпуклыми и почему-то сильно обиженными глазами:
- Эй ты, мелкий, ты че тут встал? А ну вали!
Сережа вновь услышал жалобный писк, донесшийся из-за массивных спин и, не только не побежал дальше, но напротив сделал шаг на боковую аллею, навстречу к ним.
- Эй ты, ты че не понял?! - крикнул уже другой, тоже полный, сытый, в новенькой, блестящей курточке, тоже с обиженным выражением в глазах.
Третий визглявым, нервным голосом потребовал:
- А кто твой папаша или мамаша? А ну отвечай!
Сережа произнес негромким, срывающимся от волнения голосом:
- Не ваше дело, кто мой отец; сейчас его здесь нет... Но не в том дело... - он сделал еще несколько шагов, а из-за спин, теперь развернувшийся и обиженно разглядывающей его пятерки вновь раздался жалобный писк.