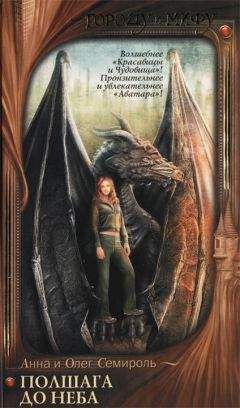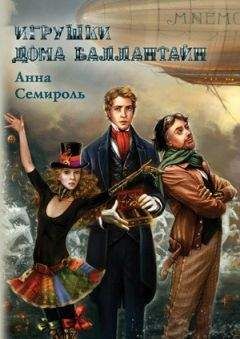class="p1">Когда они садятся в электромобиль, Бастиан вдруг отчётливо понимает причины страха Акеми Дарэ Ка.
Магдалена. Мать Амелии, которую он осмелился любить и о беременности которой по его же глупости и неосторожности узнали в Ядре. Память безжалостна. Отщёлкивает слова, словно метроном: «Сын, твои связи с плебеями позорят род. Твоя жена слишком юна, чтобы выносить беременность. Надо изъять плод. Если девочка – ничего страшного, дорастим её в Саду, оставишь себе на память. Мальчик – продолжатель рода – не может быть зачат от простолюдинки. Завтра же доставь свою подстилку в клинику при Соборе. Там всё сделают, я уже договорился».
– Они знают…
– О чём? – спрашивает Мицуко, взволнованно глядя на побледневшего Бастиана.
– Они знают, что ждёт простолюдинок, беременных от знати. Вот почему она прячется. Вот почему, когда я сказал о враче, она пришла в такой ужас… Чёртовы неписаные законы!
– Бастиан, успокойся. Я договорюсь с дядей Макото, рожать она будет под контролем. Он так и не сказал, где она живёт, но это не проблема. Ребёнок появится на свет в первой половине февраля. Клан присмотрит за ней после родов.
Каро смотрит в сторону дома на бумажные фонарики, сосну у входа и тёплый свет, льющийся из окон. Барабанит пальцами по рулю.
– Я растерян, прости. Спасибо, что помогаешь.
– Жилю ни слова. Нам пригодится этот ребёнок, – улыбается Мицуко. – Можно считать, вину перед кланом она искупила.
– Что ты имеешь в виду?
Мицуко Адати не отвечает, улыбаясь своим мыслям. Бастиан пожимает плечами и заводит двигатель. Электромобиль объезжает вокруг дома отца Мицуко и, набирая скорость, направляется в сторону Ядра.
«…все люди в мире чего-то боятся. Маленькие ли они, взрослые… Учитель говорил мне, что страх естественен, что это древний инстинкт самосохранения. Он рассказывал о бабочках. Что те, не зная страха перед огнём, летят прямо в пламя. И гибнут.
Акеми, я тоже боюсь. Я боюсь слова „никогда“. Боюсь не успеть, не заметить, не услышать – и дальше будет „никогда“.
„Никогда“ – это уже ничего не вернуть. Не исправить.
„Никогда“ – это когда некому сказать самое важное.
Однажды я видел „никогда“. Оно голодное и бездонное. Как небо, только небо теплее. Ты спрашивала меня, что я чувствовал, когда умер. Я почувствовал, как „никогда“ поглощает меня, растворяя и забирая всё, чем я был. И твоё имя было последним, чем я оставался.
И Бог его услышал.
Я так боялся, что всё было зря, моя сэмпай.
Вдруг Бог ошибся? Вдруг я просто мальчишка, который ещё мал и глуп? Вдруг я не оценил, не сберёг доверенное мне важное, дорогое? Я точно знаю, что Бог вернул меня тебе. Не миру, нет. Только тебе, Акеми.
Раз ты читаешь эти строки, значит, мы не вместе. Значит, я не могу тебя коснуться, обнять, поцеловать, посмотреть в глаза. Я не могу сказать, как я люблю тебя и как ты мне нужна. Но я могу написать это на бумаге.
Прости меня.
Ты – моя жизнь.
Ты – моя судьба.
Без тебя мой мир поглощает „никогда“. Без смысла. Без надежды.
Позволь мне жить. Позволь быть рядом.
Я виноват, Акеми. Скажи, в чём моя вина, – и я всё исправлю…»
Суп в плошке остывает слишком быстро. То кажется, что мало соли, то, наоборот, что пересолено до горечи.
– Ешь давай, – ворчит Чалье, работая челюстями. – Второй день клёклая какая-то. Как чувствуешь себя?
– Нормально, – врёт Акеми. – Лягу сегодня пораньше, завтра на работу.
– Попроси пару дней отдыха. Сортировочный цех обойдётся без тебя. Давай я за врачом схожу? Есть же сбережения, пусть глянет тебя. Не нравишься ты мне, девка.
Акеми сдерживает вздох, подносит ко рту ложку рыбного супа. Чалье смотрит заботливо, кивает:
– Умничка. А за доктором всё равно надо бы.
– Огюст, не нужно. Пригодятся ещё купоны. Да и в порядке я, успокойся.
– Ну да бог с тобой. Это… слышала – отца Ланглу народ просит в градоуправление. Чтобы, ну, защищал наши интересы. Как он всегда это делал.
Девушка кивает.
– Он сильный и справедливый. Не светлый, нет, – рассуждает она. – Но такой человек людям нужен.
По металлической двери барабанит чья-то ладонь. Акеми выбирается из-за стола, поддерживая тяжёлый живот и потирая ноющую поясницу, уходит в уголок, где кутается в тёплое толстое одеяло. Чалье откидывает цепочку замка. На пороге Жереми – один из матросов «Морского кота». Он тяжело дышит, опираясь на стену жилища боцмана и Акеми.
– Это… Прячь её. Электромобиль… Вот-вот здесь будут… – задыхаясь от быстрого бега, говорит он.
– Понял. Спасибо, – коротко отвечает боцман, впуская парня и закрывая за ним дверь.
Чалье убирает со стола миски с недоеденным супом, откидывает и крепит к стене стол. Пинком отбрасывает в сторону истёртый ногами половик, откидывает крышку люка.
– Давай, Акеми.
Она подаёт ему обе руки, осторожно спускается в тёмное сырое нутро подпола. Всё как обычно. Отработано до автоматизма. Чалье закрывает люк, возвращает на место половик и стол. Зовёт Жереми:
– Малый, помогай. Если спросят – ты со мной живёшь. Давай пока, поешь супца. И это… спокойнее.
Спустя две минуты в дверь стучат. Вежливо, осторожно.
– Ну? – шумно хлебая суп, рыкает Чалье.
Незваный гость переступает порог, откидывает капюшон, открывая знакомое боцману «Проныры» лицо.
– Боннэ?! Ну ни черта ж себе! – удивляется Чалье. – Заходи, юнга. Каким же ветром тебя принесло?
Жиль смотрит мимо него. Оглядывает комнату, задерживая взгляд на нервно ёрзающем матросе. Дышит на покрасневшие от холода руки. Из-за пазухи у мальчишки высовывается неприятная хищная морда с махонькими ушами и кошачьими глазами. Зверь недобро зыркает на Чалье и прячется обратно.
– Уй, сатана какая! – восклицает боцман, отпрянув.
– Я Акеми ищу. – В голосе бывшего юнги слышатся усталость и отчаяние. – Вот и пришёл.
– Ну, видел я твою Акеми. Как раз в тот день «Проныра» потонул, – растягивая слова, отвечает Чалье. – Потом, люди говорят, посадили её за Войну льда. Всё, больше нечего сказать.
Подросток опирается спиной на бочку у входа. Голубые глаза шарят взглядом, словно выискивая что-то, что могло быть не замечено, не спрятано, что выдаст присутствие Акеми.
– Что-то вы зачастили по поводу неё, – допивая суп через край плошки, ворчит Чалье. – До тебя приходили эти… которые теперь твоя родня. Тоже её спрашивали. Только где ж я вам её достану?
Жиль кивает, рассыпаются по плечам светлые, словно солнцем выбеленные, волосы. «Вырос малый, – внимательно вглядываясь в черты его лица, думает