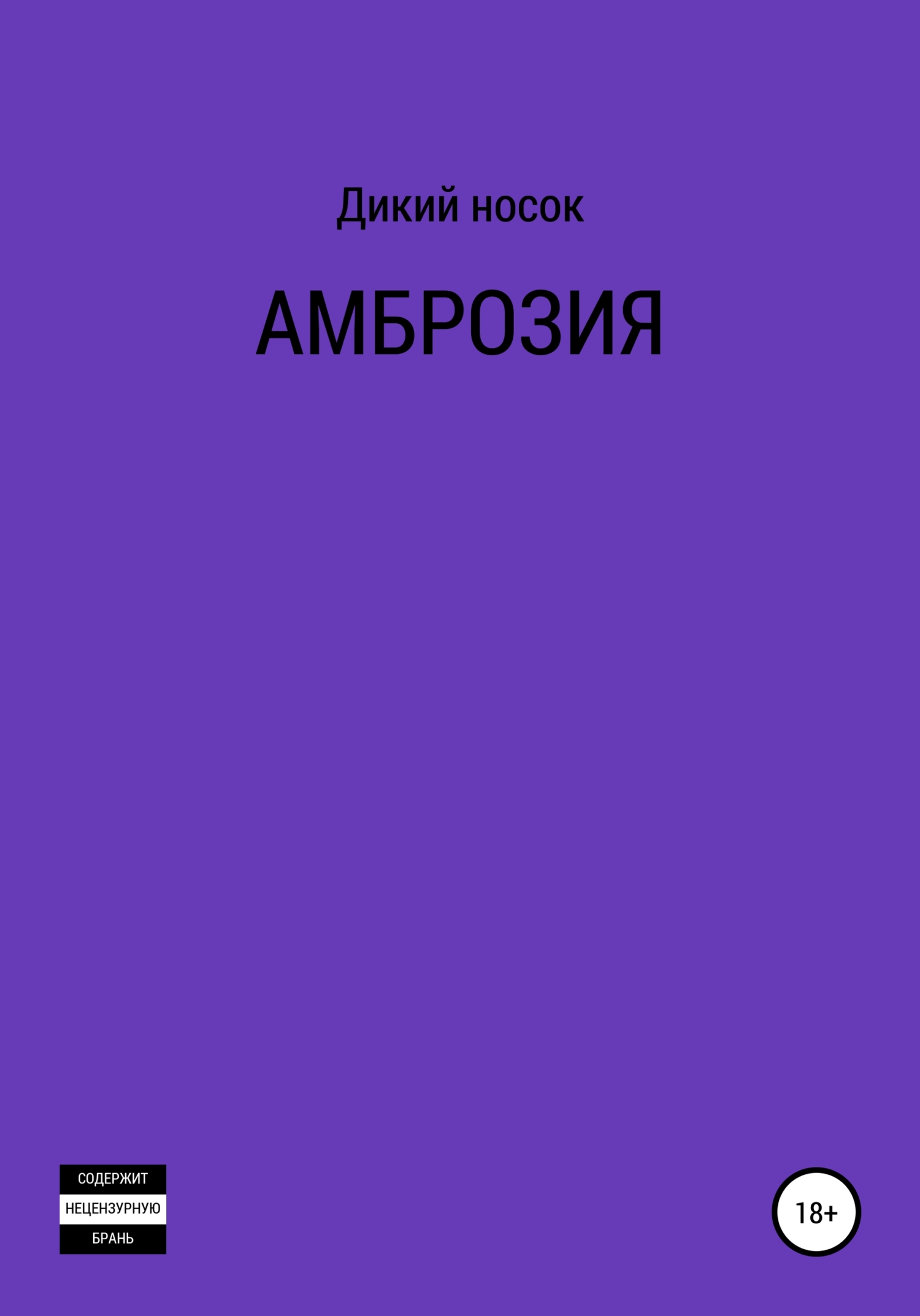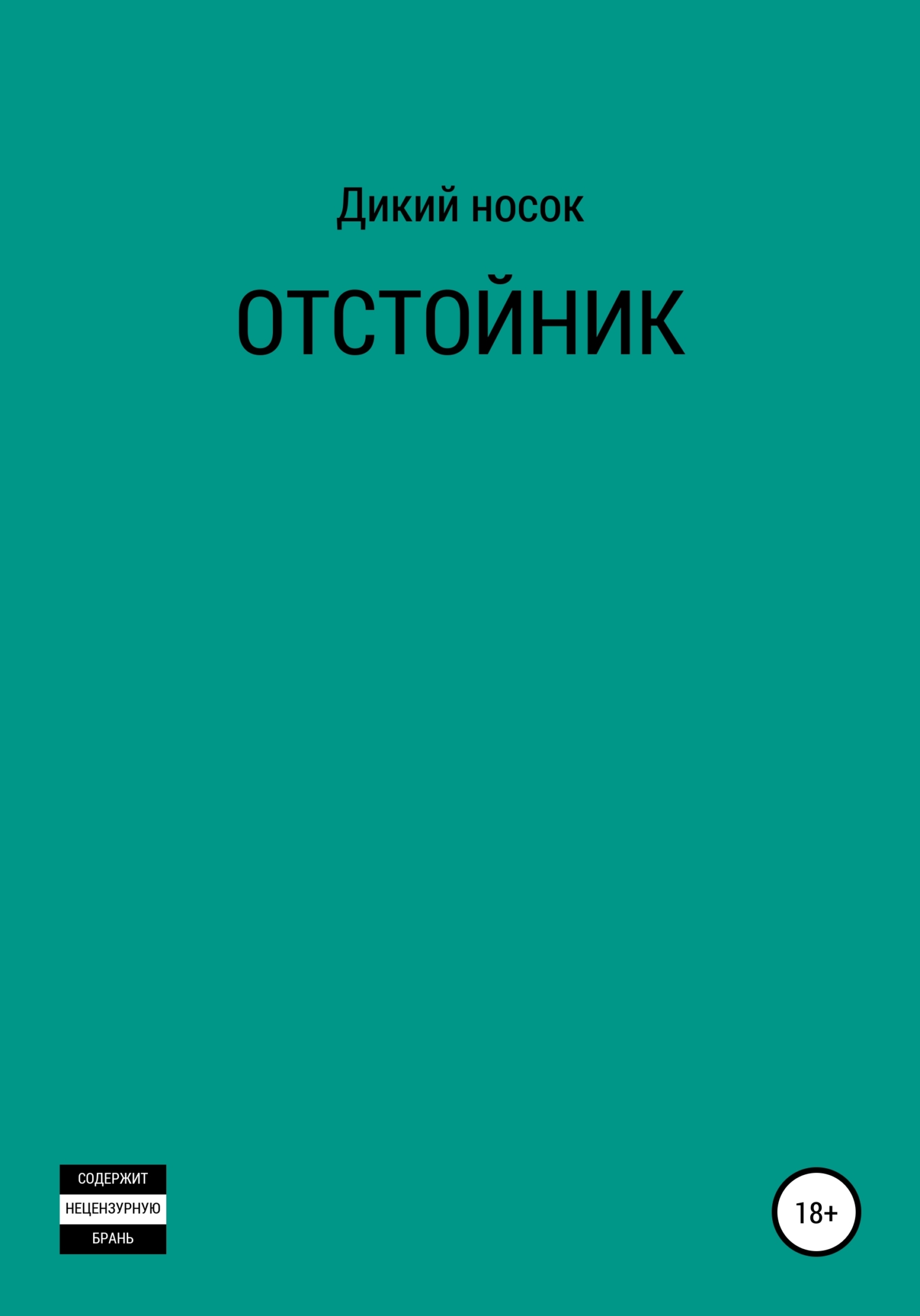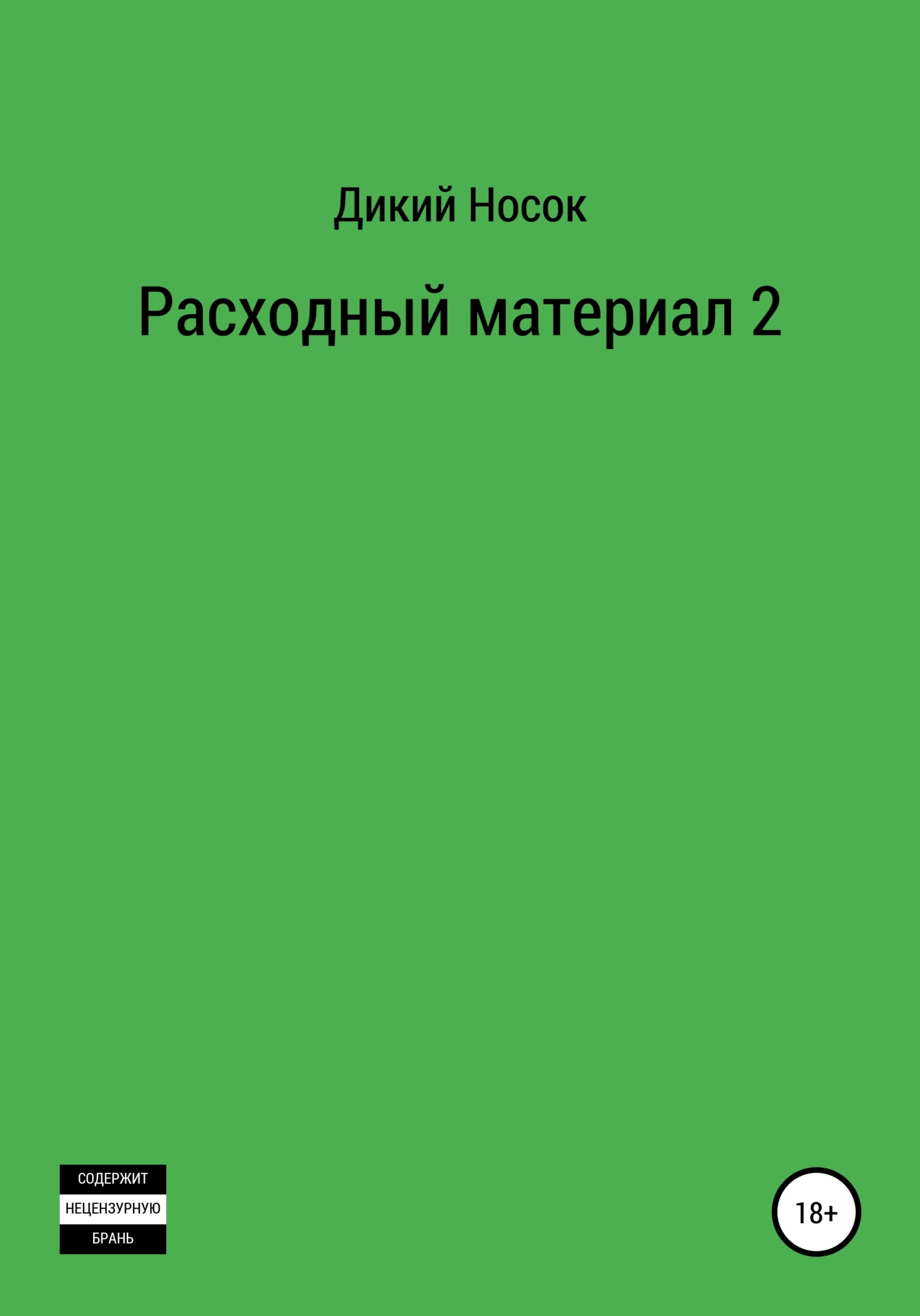внутрь, пуская липкие нити уже на стену. Олег похолодел. Это была та же дрянь, что погубила белку, та же, что обволакивала мертвых животных у подножия конусов. А он занес ее на сапогах домой и внимания не обратил. Не прикасаясь к сапогам голыми руками, он ухватил их за голенища и на вытянутых руках отнес на помойку. Так-то лучше. Сапог, конечно, жаль. Но теперь им там самое место.
Изнывающая от любопытства Аполлинария Семеновна с недоумением наблюдала за его ночной прогулкой.
***
Ленечка Комаров был «несадиковским» ребенком. Воспитательницам это стало ясно сразу, мама лелеяла напрасную надежду, что сын вот-вот привыкнет, еще пару месяцев.
Несмотря на то, что Ленечке было уже шесть лет и в садик он ходил давно, каждое утро буднего дня начиналось с жалостливого скулежа хлюпающего носом сына и заканчивалось бурными рыданиями, когда мама, и сама пребывающая уже на грани нервного срыва, за руку тащила Ленечку в детский сад. Он шел спокойно, не сопротивлялся, зная по опыту, что это совершенно бесполезно. Мама не станет слушать его плач, ни за что не развернется и не поведет домой. Его зареванное лицо и огромные, навыкате, испуганные глаза наводили встречных прохожих на мысль по меньшей мере о пытках.
Мама была настроена решительно. При всем желании, она не могла просто остаться дома и сидеть с Ленечкой. Не было такой профессии – домохозяйка, зато статья за тунеядство была. Мама должна была ходить на работу, а сын – в детский сад. Других вариантов не существовало.
Каждый божий день воспитательница в Ленечкиной группе начинала с того, что успокаивала отчаянно ревущего ребенка. И через день (воспитатели, как известно, работают посменно) эта выматывающая душу обязанность выпадала Любе. И это были только цветочки. Целый день в группе Ленечка либо одиноко сидел на стуле, не участвуя в общих играх, либо с печальными глазами стоял у окна, поджидая маму.
Ко всему прочему, как будто имеющегося было мало, мальчик был капризным малоежкой, и большая часть садиковского меню не нравилась ему категорически. Леня не ел кашу (совсем никакую) – этот непременный атрибут казенного завтрака, не любил супы, его тошнило от запаха рыбы, а стакан молока по вкусу для него был сродни стакану чистого уксуса. Попробуй, накорми такого. Поскольку голодных детей в саду быть не должно, то ежедневной головной болью для воспитателей было всунуть в Ленечку хоть что-нибудь съедобное: котлетку, ложку риса, а если повезет, то и кусочек хлеба с маслом.
Люба называла Ленечку «мой крест» и малодушно, но искренне радовалась, когда тот болел.
Сегодня на обед были щи, и большинство детей уже худо-бедно размазали их по тарелкам, а некоторые даже съели и приступили ко второму – котлетке с картошкой-пюре. Леня молча, как обычно, страдал над тарелкой. Люба зачерпнула в ложку щей.
«Леня, открывай ротик. Ам,» – требовательно произнесла она дежурную фразу. Леня мученически сжал губы в ниточку и посмотрел на нее взглядом непокоренного белорусского партизана, которого фашисты ведут на расстрел.
«Надо покушать, Леня. Давай пять ложечек и перейдешь ко второму,» – настойчиво совала ему в рот ложку Люба. В Лениных огромных глазах под насупленными бровками заплескались слезы, но он стоически отрицательно помотал головой.
«Открывай рот. Давай,» – сердито тыкала ложкой в губы ребенку Люба.
От раздавшегося через минуту дикого крика – резкого, протяжного, звенящего, словно зависшего на одной ноте, Тоня выронила поднос с грязной посудой. Но даже грохот бьющихся тарелок и лязг металлического подноса об пол не смогли его заглушить. Кричала Люба. Лицо ее перекосило, рот распахнулся до неестественных размеров, кулаки сжались так сильно, что костяшки пальцев побелели. Выпустив звериным воплем пар, Люба отнюдь не успокоилась. Со словами «жри, собака» она оттянула Ленину рубашечку и вылила злосчастные щи ему за пазуху. Затем Люба вскочила на ноги, скинула туфли и закрутилась вокруг себя волчком, тыча в детей, сидящих за столиками, пальцем и вопя: «Жрите. Быстро. Всем жрать. До последней ложки. Чтобы тарелки блестели.»
В столовой воцарилась такая тишина, что отчетливо стали слышны чьи-то спокойные шаги в коридоре. Дети замерли на стульчиках, будто примороженные, пороняв от страха ложки и вилки. Сбитая с толку Тоня стояла среди осколков битых тарелок. Тем временем, мерный стук каблуков добрался до столовой. Дверь открылась. На пороге возникла заведующая детским садом Лидия Львовна.
«Людмила Васильевна, прошу Вас подняться ко мне в кабинет. Немедленно,» – сказала она. Казалось, от этого ледяного тона могла бы замерзнуть и вода в трубах. На Любу он не произвел ни малейшего впечатления. На ее лице появилась клоунская гримаса, рот растянулся до ушей, глаза придурковато выкатились. Люба неожиданно присела в глубоком реверансе, сохраняя при этом дурашливое выражение лица, потом поднялась и показала Лидии Львовне язык «бе-е-е». На лице заведующей не дрогнул ни один мускул. А вот дети испугались. Первым монотонно завыл Ленечка Комаров. Его живот под рубашкой был облеплен капустой, а жидкость стекала со стула на пол, образовав под стульчиком изрядную лужу. Судя по запаху, это были уже не только щи. К нему тут же присоединились Олечка, Саша, Наташа. Далее – все. Ор по мощности децибел сравнился с ревом взлетающего истребителя.
«Антонина Анатольевна,» – ровно скомандовала Лидия Львовна. – «Выведите детей.»
Тоня бросилась исполнять требуемое. Дети, сгрудившись табунком и то и дело оглядываясь на сошедшую с ума воспитательницу, потянулись за ней. Уже закрывая двери, Тоня видела, как Люба подхватила со стола чью-то тарелку со вторым блюдом, жадно затолкала себе в рот котлетку и, сгребя пятерней картофельное пюре, ловко метнула его в Лидию Львовну.
Артиллеристом Люба оказалась неважным. Уже после того, как ее увезла скорая помощь, а заведующая, собрав персонал, строго велела не чесать языками о произошедшем, Тоня вернулась в столовую. Полы, столы и стены были заляпаны плюхами картофельного пюре. Оно сползало по шторам и намертво присыхало к окнам. Насчет соблюдения секретности можно было не обольщаться. Маленький городок – та же большая деревня, где все всё обо всех знают, а любые новости разносятся со скоростью таежного пожара.
***
Андрюха ворочался всю ночь. А утром, хотя за окном была и темень непроглядная, резко открыл глаза и уже никак не мог закрыть, пялясь в невидимый потолок. Еще и будильник то не звонил. Андрей приподнял голову с подушки и с ненавистью посмотрел на брата. В неярком свете далекого уличного фонаря он видел лишь Серегин силуэт. Брат спал на кровати у противоположной стены, завернувшись в толстое одеяло словно ребенок.
По приезду Савельевым выделили одну