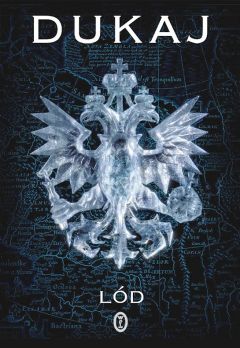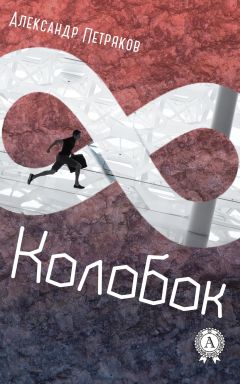Я тер глаза, ослепленные дважды — мраком и светом — уверенный, что под веками зрачки еще пульсируют болотными огоньками тьвета.
Вдова Вельц напоила меня горячим чаем, пододвинула пирожные.
— Никто не может сам себе гадать по тьвечке, пан Бенек, не нужно было. Что вы там увидели?
— Меня отемнослепило.
— Ой, нехорошо, нехорошо. А пан уверен, что его отец жив?
— А что?
— Да ничего, ничего, надеюсь, что он жив и здоров, прошу меня простить, я не хотела вас пугать…
— Пугать? — сухо рассмеялся я. — Чем же?
В первый раз за сегодня она избегала глядеть на меня. Пани Мария спрятала тмечку в банку, закрутила крышку, банку поставила на полку в шкафу и закрыла его на ключ. Двигалась она со свойственной для пожилых людей преувеличенной осторожностью, как будто бы каждое движение вначале нужно было продумать, запланировать и только лишь затем исполнить.
Редкими были те моменты — как этот, например — когда выражение радости покидало ее лицо, тогда на тонкой коже проявлялись все морщины, под подбородком и горлом появлялись птичьи складки, веки опадали.
— Когда Фредерик приходит ко мне, я ему тоже, как могу, гадаю. Стараюсь забыть, а раз забыть не могу, пытаюсь отвратить судьбу — предостеречь его, чтобы он судьбы избежал. Мне знаком свет смерти, ту светень, которую он отбрасывает, это его рок, предназначение — я ему говорю, только он не слушает меня, может вас послушает, вы приглядите за ним, пан Бенек, прошу вас — если еще и он погибнет, как показывает тьвет — неожиданно, молодо и трагически, в гневе — если еще и он погибнет, даже и не знаю, что тогда делать.
Пани Мария осторожно присела на стуле, сгорбившись чуть ли не вполовину, трясущейся рукой поднесла к лицу батистовый платок.
— А теперь пан уезжает, и тоже — тоже — я же знаю подобный свет! — кто за вами будет приглядывать?
С каждым словом, она все сильнее сжималась на этом своем стуле, более бессильная, хрупкая, несчастная; все больше она походила теперь на маленькую, потерянную девочку — под миллионом морщинок, в темном траурном одеянии.
— Я буду молиться за вас каждый день. Пан Бенек… Уходите уже.
На Желязной из разбитой телеги вылились нечистоты, теперь они замерзали на мостовой, на тротуаре. Обращая внимание на каждый шаг, я шел вдоль стены. Тут из-за угла, с Цегляной неожиданно выскочила группа пьяных рабочих, я чуть не упал. Меня тут же добродушно обругали и поплыли в своем направлении. Из забегаловок, харчевен, малин и дешевых пивных им вторили отголоски хриплых песен, пьяные выкрики, из доходных домов доносились звуки мандолины и гармошки. В самой глубине Желязной, где над снегом горели огни в угольных корзинах, избиваемый металл гудел треснувшим колоколом. Трамваи, во всяком случае — летом, должны были курсировать нормально, тем временем, рельсы обмерзали твердым льдом, достаточно было одного прохода люта, чтобы самая лучшая сталь начинала крошиться словно мел. В связи с этим, президент[24] Миллер принял решение о замене всех рельсов зимназовыми, с Сибирхожето был подписан миллионный контракт, и теперь, днем и ночью, над улицами Варшавы разносились удары молотов. Я проходил мимо групп работающих мужчин, несмотря на мороз, раздетых до рубах. Нужно было заменить и всю контактную сеть. Снова на улицы возвращались конки. С тех пор, как люты прошли через Повисле, чтобы угнездиться на Лещинской рядом с электростанцией, Compagnie d'Electricite de Varsovie[25] постоянно переживала неприятности, пару раз она была близка к банкротству; а варшавское отделение «Электрического Общества Шуккерт и Компания» регулярно выплачивало городу лицензионные штрафы, когда освещение раз за разом отказывалось повиноваться, и целые кварталы оставались в темноте. Именно западный городской округ так и оставался слабо электрифицированным. Опершись на газовый фонарь, городовой курил трубку, забивая смрад продуктов промышленного горения. Из кухонь, прачечных, из глубоких канав и темных дворов так же поступали резкие запахи, никак не подавляемые низкой температурой. Эту округу я попытался пересечь как можно скорее. Где-то за мной другой прохожий встретился с веселой компашкой пролетариев; раздались возгласы на русском языке, вначале наполненные возмущением, затем — страхом. Я же и не глянул. Снег перестал падать; все горизонтальные и наклонные плоскости были покрыты слоем чистейшей белизны, хрустально искрящейся в газовых и электрических огнях метрополии — в такие моменты Варшава по-настоящему красива: когда она менее похожа на истинную Варшаву, а скорее — на открытку из Варшавы.
Я жил в этом городе, только город жил вне меня. Наши кровеносные системы не соединялись, наши мысли не пересекались. Вот так живут рядом друг с другом, на себе — жертвы и паразиты. Но кто здесь на ком паразитирует? Определенное указание может дать поведение лютов: они гнездятся в самых крупных людских скоплениях.
Возле Калиского вокзала я купил хлеб, колбасу, баночку жура[26] и сушеные сливы. Вчера еще нищенствующий по кафешкам — сегодня чуть ли не богач; еще вчера один из варшавских вечных студентов, с перспективой очередной тысячи вечеров, проведенных над водкой, папиросами и картами, по пути к ранней старости, увенчанной более или менее романтичной смертью от туберкулеза или сифилиса — а сегодня… кто? А ведь уже более года, со смерти матери, я только и ждал оказии, ждал денег — чтобы сбежать. Прочь из этого города, прочь от этих людей, прочь от самого себя в этом городе. Каким же благословением являются для нас незнакомые люди: скажу им, что я невинный молодой преподаватель математики, которого гнетут русификаторы из конгресса, и таким для них и буду, и тут же таковым сделаюсь для самого себя; Бенедикт Герославский сползет с меня словно кожа со змеи во время линьки — ибо только так мы можем возродиться еще при этой жизни, заново родиться в этом мире; какое же это благословение — незнакомые, чужие люди!
Итак, Мыс Доброй Надежды, Антиподы, Западная Индия, может, Константинополь. Тысяча рублей — хватит.
Копчености тут же вынюхал ничейный пес, который облаивал меня от водопроводной станции до самых Артиллерийских Казарм. А под самыми воротами ко мне пристал какой-то чахоточный том в железнодорожной фуражке; я вырвался, пряча покупки за пазухой. Туберкулезник, хрипло кашляя, размахивал какой-то бумагой. Я уже хотел было крикнуть дворника Валенты, когда незнакомец успокоился; прижимая ладонь к груди, он быстро и неглубоко дышал, ритмично кивая головой, как будто и вправду заглатывал воздух, пар выходил у него изо рта мелкими порциями. Только тогда я заметил, что у него нет левого уха, под фуражкой был виден багровый шрам и опухший участок тела. Скорее всего, он его отморозил.