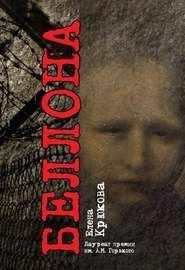Ознакомительная версия.
- Типун тебе...
Галина петуха к груди прижимает. Петух изловчился и клюнул золотое зерно монист. Мониста зазвенели. Весело звени, пой, свадьба!
- Гости дорогие, стюдень на столе, и беленькая стынет!
- Помидорки, Иван Юрьич, уродились уж у тебя! Быстрый ты!
- Хозяйка в теплице ростит...
Рюмки налиты всклень. Студень разрезан, по тарелкам разложен. Пирог из печи вынут - Анна Тимофеевна с капустой и яйцами спекла. Иван Юрьевич - чуваш, Анна Тимофеевна - чувашка, а в паспорте пишутся - русские. И то правда: христиане. Церкви повсюду взрывают, а по всей России в деревнях родители тайно детей крестят.
Галина сидит, грудь сверкает монистами. Фата из тюля лезет на глаза. Глаза блестят, слез полны. Ванька прямее доски, рубаха по вороту алой нитью вышита. В сельсовете они уж расписались. К попу не пошли: современные. Но перед родителями на колени встали. По старинке. Благословите, батька и маманька, на жизнь долгую, и чтобы деток много родилось!
Детки. А беременеют - сразу? Или чуть погодя? Галина слюну сглатывает. Бледнеет. Она первой ночи смерть как боится. Она девочка еще. И они с Ванькой вечерами гуляли, на лавочках над Сурой сидели, да она ему не дала. Молодец девка. Выдержала.
А Иван сидел каменно, ледяную ножку рюмку в горячих пальцах сжимал, думал, губу закусив: зачем не дала, счастья бы все поболе было, чем одна ночь.
Бабы пели, голосили. Старик Живоглот хромку вертел, как девку на танцульках. Рябая Наташка, с перевязанной головой - ей в гражданскую беляк саблей чуть не полголовы снес, и умом она повредилась тогда, да заросла кость, уродливый шрам под волосами вязаной лентой скрывала, - встала, нависла горой над столом, завизжала, будто резаное порося:
- Горька-а-а-а-а! Горька-а-а-а-а! Ох, подсластить ба-а-а-а!
Вскочил Иван, будто струну порвали. Зазвенела посуда. Медленно встала Галина. Бледнее скатерти. Иван взял за подбородок Галькино лицо. К себе повернул. Глаза в глаза. Губы к губам.
- Ягодка, - прошептал.
Галина обняла, ощупала, исцеловала глазами Ванькино лицо. Красивый. Молоденький муж ее. Совсем мальчик.
И она, хоть ровня ему, почуяла себя вдруг - старой, жизнь прожившей. И вроде уж умирать надо.
"Какая маленькая жизнь", - прочитал Иван в Галининых глазах.
Губы сблизились. Целовались долго, а вокруг кричали. Вилками, рюмками звенели. Зычный голос над их головами считал:
- Десять! Одиннадцать! Двенадцать...
"Люблю тебя, милый ты мой", - говорили Ивану Галькины губы.
"И я тебя. Больше жизни", - отвечали Галине губы Ивана.
- Двадцать! Ох, сладко!
Оторвались друг от друга.
- Двадцать лет жить будете! Сосчитали уж вам!
- Да не слыхали оне... оглохли...
- Дольше надо было чмокаться! Двадцать - мало будет! Надо - полтинник!
В спальне девчонки, подружки Галины, пуховую перину взбили, кровать хмелем забросали. Шторы задернули. В залу выбежали. Губы к Галининому уху прислоняли: ты, когда ноги раздвигать будешь, зубы сожми и так молись: "Богородица Дева, дай мне претерпеть бабью боль! Сперва больно, потом сладко!"
Вина почти не пили, водки не касались, и так все плыло, уплывало.
Живоглот устал мучить хромку. Гости глотки в песнях надорвали. Пироги Тимофеевнины сожрали. Всему бывает конец, и свадьбе тоже. Милы гости, черт вам рад! А ну выметайсь из избы! Ночь на дворе!
Летняя ночь. Ночь. Крупные звезды. Простыни хмелем пахнут, а еще - духами "Красная Москва", девчонки побрызгали.
Раздеваться надо. Ночной свет льется в окно. Свет травы, свет от светлой коры осин и берез. Окно в сад открыто, и листья слив лезут прямо в избу. Слив, вишен изобильно завязалось. Варенье Галина одна варить будет. И огурцы - одна солить.
Одна.
Все с себя отчаянно сорвала. Стояла перед Ваней голая. Тело светилось.
- Ничего не боюсь! Ваня! Только...
Он крепко обнял ее. На руки взял - легкая она, подсолнуха лепесток.
- Меня не убьют, - пробормотал, ложась на нее, и она забилась под ним, закинув голову, раскинув белые ноги, и так сильно обняла за шею, что чуть не задушила.
Когда плоть соединилась, Галина распахнула глаза широко и изумленно выдохнула:
- Не больно...
А Иван, выжатый долгожданной судорогой, плакал малым ребенком, уткнувшись в подушку, щекой к Галининой щеке.
И, как ребенка, гладила Галина его по потной голове, утешала, шептала невнятное, единственное.
А утром вынесли гостям, что, запьянев, спать в избе у Макаровых свалились, простыню, кровью окрашенную. Крестилась Анна Тимофеевна, молитву читала. Блестела, в зеркале отражаясь, Живоглотова хромка с перламутровыми старыми, царскими пуговицами.
Надевал Иван перед трюмо чистую рубаху. Натягивал штаны. Мешок с провизией уж собран был, на сундуке ждал. На мешке сидел кот, облизывался. Галина глядела, как Иван собирается на войну.
Родители сына перекрестили. Иван сам перекрестился на икону. Донская Богоматерь складывала нежный ротик печально, сердечком. Младенец на Ее руках смотрел стариком, не хуже Живоглота. Он все знал про Себя.
- Ну, пошел я.
- Иди, сынок! С Богом!
Анна Тимофеевна так и сидела на табурете: на дорогу не могла выйти, колени ослабели.
В окно следила: вот Ваня вышел за калитку, вот Галина ринулась вдогонку, закричала.
Что кричала? О чем?
Пусть покричит. Поплачет. Ночь первая, а может, и последняя.
Глядела мать в окно сухими внимательными глазами, как вчера еще чужая девка обнимает, целует ее сына, осыпает поцелуями его щеки, плечи, губы, лоб. Как Иван наклоняется и целует эту незнакомую девчонку в глаза и рот. Как ветер рвет, развевает волосы девки, они летят по ветру, путаются, блестят на солнце, вьются в веревки, в русые лески.
- Дети, - вымолвили сухие старые губы. - Детки... мои...
Глаза видели: Иван крупными, злыми шагами, оторвавшись от жены, пошагал по пыльной, по солнечной дороге, ступая на всю ступню, уходя, исчезая. Быстро шел, споро. Минута - и от Ивана лишь черная точка на дороге осталась.
Дверь заскрипела протяжно, будто завыла. Галина вошла в избу.
Встала на колени перед черной глыбой, старухой, к табурету намертво прикованной: коричневое вяленое, копченое лицо из-под черного шерстяного платка, рыбы-руки на груди скрещены, тяжелое венчальное золотое кольцо на узловатом диком пальце блестит.
- Мама...
И старуха посмотрела слепыми глазами на нищее медное, тоненькое позолоченное колечко, в сельмаге купленное, у Галины на пальце нежном, детском, молодом, безымянном.
[интерлюдия]
Так говорит Гитлер:
Уважаемый господин Сталин,
Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда я окончательно пришел к выводу, что невозможно добиться прочного мира в Европе ни для нас, ни для будущих поколений без окончательного сокрушения Англии и уничтожения ее как государства...
Ознакомительная версия.