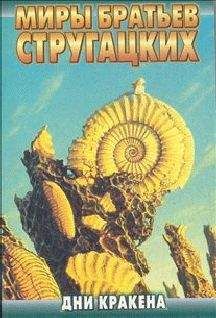Позади коробки с французскими карточками стоит настольный психотермобарометр, изящный на вид прибор, непоколебимо показывающий «к ясной погоде», плюс один градус и сто процентов. Мне подарили его друзья на день рождения, предварительно уронив в переполненном автобусе. Каждый раз, когда он попадает мне на глаза, я вспоминаю своих друзей. Это плохо, друзей надо помнить всегда — прекрасное правило, следовать которому так же трудно, как и любому другому, столь же прекрасному. Рядом с прибором располагаются две пачки сигарет «Друг», мраморный стакан для карандашей с пришедшей в негодность авторучкой и наполовину пустая пачка кукурузных хлопьев глазированных. Обособленно стоит пустой флакон из-под духов. Интересно, что может сказать такой набор предметов острому наблюдателю? Если учесть, что я пишу только карандашами или печатаю на машинке, терпеть не могу кукурузных хлопьев, курю только «Памир» и никогда не пользуюсь духами. Впрочем, я ни разу в жизни не встречал острых наблюдателей. Подозреваю, что это не столько объективная реальность, сколько литературный прием. Вроде выражения «в глазах ее вспыхнула нежность».
Книги. Самые мои любимые книги — если не считать собраний сочинений — стоят на четвертой полке. Кстати, о классификации. Не знаю, почему мы любим одни книги и не любим другие, но представляю себе, по какому признаку квалифицированный читатель относит книги к отличным, средненьким или серым. Квалифицированные читатели это те, кто, во-первых, читает много, а во-вторых, любит перечитывать. Не надо считать квалифицированным читателем равнодушного листателя, трудолюбиво читающего все подряд, не запоминая, не вспоминая, не влюбляясь в книгу, или тупого фанатика, который всю жизнь перечитывает один-разъединственный пятый том полного собрания сочинений Шеллера-Михайлова. Интересно, почему именно Шеллер-Михайлов, я его в жизни не читал. Он ассоциируется у меня с семью слониками на полочке и с бездарными лубочными вышивками. Так вот, квалифицированный читатель делит книги на серые, средненькие и отличные. Отличные и есть любимые. У каждого они свои. Впрочем, и серые, и средненькие тоже.
Серую книгу, как правило, трудно или невозможно дочитать до конца. Для меня это «Семья Тибо», почти все советские детективы, «Ому» превосходного писателя Мелвилла, «Лунная дорога». Средненькая — это книга, которую прочитываешь с удовольствием, но перечитывать либо не тянет, либо тяжело. Примеры: большая часть советской и зарубежной фантастики, «Кобра под подушкой» Кима, «Учитель Гнус», «Три товарища», «Брат мой, враг мой», историческая серия Конан-Дойля. А отличная, любимая книга — это книга, которую можно просмаковать хотя бы один раз, к которой непременно возвращаешься, по которой в самых неподходящих обстоятельствах вдруг начинаешь скучать, как по славному человеку.
Вот они, мои друзья и любимцы, слегка потрепанные, выстроились на полке безо всякой системы, некоторые, кажется, даже вверх ногами. Два черных с красным и серебром тома великого Хемингуэя. Я человек простодушный, больше всего люблю «Фиесту», «Иметь», «Трехдневную непогоду». И жалею, что не удалось достать «За рекой в тени деревьев». Настоящие ценители, вроде Пети Майского, меня презирают. Колосс Леонид Леонов, «Дорога на океан». Изумительная, неисчерпаемая книга. И по-моему, Курилов — единственный в мировой литературе образ настоящего коммуниста-мечтателя, на которого смотришь с благоговейным восхищением, задрав голову и придерживая шапку. «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, воениздатовское издание с отвратительными дубовыми иллюстрациями, ничего общего не имеющими с живой умной яростью этой отличной повести. Том Ростана. Наверное, если бы не Щепкина, половина прелести «Сирано» для нас, русских, безвозвратно пропала бы. Сологуб, «Мелкий бес». Не возьму в толк, почему наши критические ослы так ополчились на него. Помимо всего прочего, это крепкое, сильнодействующее лекарство от обывательского запора. Перечитываешь с наслаждением и с тайной дрожью какой-то: господи, как хорошо, что я не такой, как славно, что у нас уже не так. «Признания авантюриста Феликса Круля». Единственная книга Томаса Манна, которую я люблю. Вероятно, за поразительную, блистательно-бесстыдную откровенность. И еще за то, что она по-старинному, по-диккенсовски уютная. «Новеллы» Акутагавы. Акутагава писатель особенный, аналогий ему нет ни в Японии, ни во всем мире. Интересно, что старательный, нарочито дословный перевод Фельдман очень идет ему. Так и кажется, будто японцы должны воспринимать оригинал так же, как мы воспринимаем этот на первый взгляд неуклюжий, спотыкающийся перевод. «Швейк», «Человеческая комедия» Вильяма Сарояна, Честертон, Бёлль, «Мост» Грегора. Сюда бы еще «Вернера Хольта», но он располагается полкой ниже, выдранный из номеров «Иностранной литературы» и заключенный в картонную корку от «Нового мира», рядом со «Счастливчиком Джимом», «Над пропастью во ржи» и Дудинцевым. Грэм Грин. Трилогия Яна. Лем. У меня только «Астронавты» и «Магелланово облако». Когда и если выйдет отдельным изданием «Солярис», я их выкину. А пока пусть стоят, представляют в моей пятой и последней библиотеке любезного сердцу моему пана Станислава. «Повести древних лет» Валентина Иванова. Опоздал купить «Русь изначальную». Олеша. Бабель. Солнечный и интеллигентный Бабель. Говорят, он работал до последней минуты. Ему повезло, начальник тюрьмы оказался его почитателем и разрешил работать в своем садике. Бабель так и умер под синим небом за дощатым столом, уронив голову на незаконченную рукопись. «Туманность Андромеды» и «Великая Дуга». «Туманность» с дарственной надписью автора. Он меня, наверное, забыл, но я-то его хорошо помню. Огромный, видимо страшной физической силы человек в старом морском кителе и шлепанцах, с бледными твердыми глазами навыкат и щетинистыми серыми усиками. Это один из самых умных и добрых людей, кого я знаю, и я его люблю, за книги и его самого, да и нельзя его не любить, слишком в нем много того, что всегда хочется видеть в людях. За Ефремовым стоят два комплекта Уэллса, молодогвардейский и гослитиздатовский. И ни в одном нет отличной утопии «Люди как боги». «Три мушкетера», вечная книга, которую будут читать, пока на Земле нужны радость жизни, честь и храбрость. Стейнбек, «Зима тревоги нашей», будто в пару к «Мелкому бесу». Надо будет поставить их рядом. Трехтомник Чехова с зелеными корешками. Всё.
Всё. Я уперся ладонями в край дивана, чтобы встать, но нечаянно взглянул вверх, на седьмую полку, и остался сидеть. Седьмая полка — это усыпальница моих увлечений математическими науками. Серьезные были увлечения, и я до сих пор не уверен, что отделался от них навсегда. Вот, например, «Совершенный стратег», он же «Букварь по теории стратегических игр» Дж. Д. Вильямса, книга умная и веселая. К сожалению, она попала ко мне слишком поздно, и я так и не дочитал ее. Но я знаю, что рано или поздно я снова доберусь до нее, дочитаю и перечитаю. Рядом с «Совершенным стратегом» стоит «Курс высшей математики» Смирнова, том четвертый, а всего томов шесть. Наверное, Смирнов — последний энциклопедист в математике. Людей, которые бы знали всю математику, больше не будет. Времена энциклопедистов проходят безвозвратно, и люди, которые считают, что в будущем ученый совместит в себе кучу разнообразных специальностей, просто не понимают, что говорят. Они размахивают кибернетикой и прочими стыковыми науками и совершенно забывают, что для практической работы в таких науках совершенно не надо быть энциклопедистом. Облупленный плотный том издания одна тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года. Барон Вега, «Десятизначные математические таблицы». Гигантский научный подвиг. Тридцать лет однообразной вычислительной работы, тридцать лет утомительнейшей возни с цифрами. Кажется, Вега — самый трудолюбивый барон в истории человечества. В наше время эту работу проделала бы за месяц небольшая счетная машина типа «Минск-2». Может быть, когда-нибудь люди будут так же неохотно восхищаться подвигом Льва Толстого.