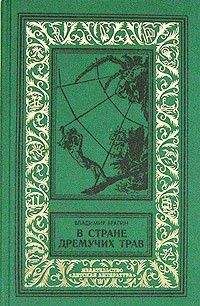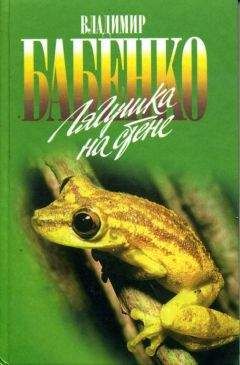«Барышня! Барышня! Что с вами?» «Ничего, иди спать!» — ответила я. Она ушла. Я распахнула окно. Тревожно и глухо шумел за окном мокрый сад. Дождь шел все сильнее. И мне почудились чьи-то тяжелые удаляющиеся шаги. Это был Думчев. Он, наверное, приходил к моему дому, хотел что-то передать; но не посмел, а Дуняша со свечой спугнула его.
Наступило утро, серое, туманное. Небо не прояснялось. И было странно слышать, как весело чирикают мокрые воробьи. И я увидела под моим окном на сырой земле след. Он был полон воды. Я сразу послала Дуняшу к Сергею Сергеевичу. Она вернулась и говорит: «Пропал наш доктор!»
А в городе уже пошли нехорошие слухи. Говорили, что доктор утонул и даже одежду нашли.
Как-то, проходя через кухню, я увидела, что Дуняша разжигает какой-то бумажкой лучину для самовара. Мне бросился в глаза знакомый почерк… Я выхватила, затушила, расправила скомканную обгоревшую бумагу. Да, это был почерк Сергея Сергеевича. Легкомысленная Дуняша не смогла толком рассказать, где и как она взяла бумажку.
Полина Александровна подошла к дубовому резному шкафчику с опускающимися и поднимающимися решеточками, собранными и составленными из хорошо отполированных планочек — свидетельство неторопливой мысли столяров девятнадцатого века, — и стала что-то искать.
— Я ищу, все ищу, — говорила она, — и все никак не найду. Где же она, где эта записка?.. Ах, вот она!
Бережно и осторожно положила она на стол бархатную папку, открыла ее:
— Читайте!
На обгорелой бумаге я прочел следующее:
«Глубокоуважаемая Полина Александровна! На время вынужден уехать. Прошу Вас, зажигайте по вечерам лампу с рефлектором в моей лаборатории… читайте… Дарвина и Фабра».
Все тот же почерк: на всех записях в лаборатории, на листках, прочитанных под микроскопом, и на обгорелой потускневшей бумажке.
И, чем внимательнее я всматривался в разрозненные слова, тем больше овладевало мной тревожное чувство, тяжелое беспокойство. Эти отдельные слова, едва уцелевшие от огня, такие заброшенные и одинокие, придвинули меня к судьбе того неизвестного человека, который когда-то вложил в них столько надежд. Что с ним случилось? «На время вынужден уехать»… Может, он и не утонул?
— Я поступила так, как писал мне брат: переехала в домик, где жил и откуда ушел Сергей Сергеевич, — сказала Полина Александровна и с большой горечью продолжала: — Тогда, давно, сразу после ухода Думчева сюда приходили люди, смотрели, удивлялись. И я примечала столько недоверчивых улыбок, столько иронических взглядов! Но я не обращала на это внимания. Никому не позволяла тронуть ни один предмет в его доме. Но, наверное, один из любопытствующих посетителей был злым шутником.
В провинциальном юмористическом журнале этот случай был описан как курьез и даже с карикатурой. Вот у меня сохранился этот журнальчик. Не правда ли, у него такое легкое название — «Мотылек», а так тяжело он обидел меня. Вот, вот, читайте на семнадцатой странице…
«В связи с продолжающимися разговорами, — прочел я в пожелтевшем юмористическом журнальчике, — о таинственном исчезновении жителя города Ченска доктора Думчева наш журнал не остановился перед затратами и направил в сей город своего корреспондента господина Петрушина, который любезно предоставил редакции достоверный художественный рассказ об этом событии в виде драматической пьесы в четырех картинах.
Картина I. На улице Ченска. Воскресенье. Полдень. Звонят колокола. Двери церкви настежь открыты. Подъезжают фаэтоны, дрожки, коляски. А за рессоры колясок цепляются босоногие мальчишки. И, когда извозчик вспугивает их кнутом, они бегут рядом с колесами и кричат:
— Женится! Доктор-стрекоза сегодня женится!
Картина II. Дом жениха. Вбегает соседка. Кричит прислуге доктора:
— Арсеньевна! Скорей! Скорей! Певчие в храм уж пошли! Жених-то твой готов? Арсеньевна стучит в дверь:
— Сергей Сергеевич, пора! Скоро венчание! Вот возьмите накрахмаленную сорочку.
Дверь открывается, из-за двери высовывается рука доктора за сорочкой. Дверь захлопывается. Вскоре Арсеньевна снова стучит в дверь:
— Не желаете ли, Сергей Сергеевич, выпить стакан чаю и откушать моего слоеного пирога перед венчанием? А то день-деньской — ни маковой росинки.
— Пожалуй! — говорит доктор, подойдя к двери. И опять из-за двери высовывается рука и берет поднос со стаканом чаю и пирогом.
— Сергей Сергеевич! Шафер прибыл за вами! Дверь закрывается.
— Пора, Сергей Сергеевич! — кричит шафер.
— Простите! Не могу вам открыть дверь — я еще не одет. Сейчас! Сейчас!
Шафер ждет немного, снова стучит:
— Скорее!
— Иду! — слышится из-за двери.
Картина III. В доме невесты. В подвенечном наряде сидит невеста. Ждет. Никто за ней не приезжает. Она восклицает:
— Ничего не понимаю! Ничего не понимаю!
Картина IV. Снова в доме жениха. Стучат в дверь. Ответа нет. Открывают дверь. Комната пуста! На столе, на полу в неописуемом беспорядке валяются свадебный фрак… накрахмаленный воротничок… сорочка… галстук… брюки… ботинки…
— Доктор, доктор!.. Где вы?
Смотрят под стол, открывают шкафы, даже в открытое окно глядят. Но под окном все время стоят любопытные ребята.
Они кричат:
— Сюда не смотри! Из окна никто не прыгал.
— Доктор! Где вы? Где вы?.. Молчание.
— Истратился! Как будто истратился человек! — всплескивает руками старушка Арсеньевна. — И дни и ночи работал, работал, тратился, тратился — и истратился!
Соседки и кумушки ее поддерживают:
— Истраченный человек!»
Я прочел этот нелепый фельетон, — порождение скуки, безделья и злобы давно прошедших времен. На лице Булай, когда она брала из моих рук журнальчик, отражалось такое отчаяние, словно все вокруг нее рушилось. Видно, бывают обиды-раны, которые слишком долго ноют.
Я заговорил:
— Стоит ли пустая злая шутка, написанная в бесцветное старое время, стоит ли она того, чтобы живые чувства и мысли застыли на ней, как это случилось с диккенсовской героиней, которая сама в минуту отчаяния навсегда остановила свои часы в столовой — «остановила часы своей жизни»?..
Не знаю, мои ли слова помогли старой женщине отодвинуть от себя подальше обиду или это сделали ее душевные движения — те движения, которые ни на миг не покидают человека и, беспрестанно меняясь, переливаясь, толкают мысли и чувства к надежде, к уверенности, что его ждет впереди что-то радостное, — но старая женщина посмотрела светло и ясно на записку:
— Ах, если вам, Григорий Александрович, удастся разгадать смысл обгорелой записки! Отгадать теперь, через много-много лет, то, что никто не мог сделать до сих пор. Здесь написано: «Читайте… Дарвина и Фабра…» Я прочла и Дарвина и всего Фабра. Но все сотни и тысячи страниц, которые я читала и перечитывала, не восстановили для меня тех нескольких слов, что были уничтожены спичкой при разжигании самовара. Или вот: «Зажигайте мою лампу с рефлектором»… Вы видели — у самого окна лаборатории, выходящего на запад, на деревянной подножке стоит зеркало. Оно прикрыто материей. Когда-то она была белой. Рядом стоит лампа с рефлектором. Рефлектор направлен на зеркало. Вечерами я открывала окно, зажигала лампу и направляла рефлектор на эту белую материю. Так лето и прошло. Наступили дни осени, холодные и ненастные. Рано стало темнеть. Хлопали ставни. Я закрыла окна, забила ставни в башенке-лаборатории.