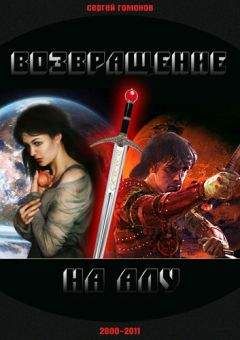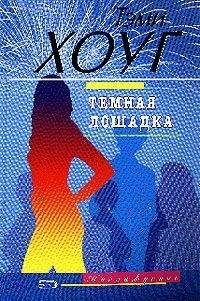Как же тут не хватало Учителя… Паском, Паском, почему же вы ушли именно в такое время?..
Тессетен побродил по храму Тринадцати, внимательно разглядывая обстановку. Своды потолков здесь казались невероятно высокими, всё давило на прихожанина, и не будь у Сетена больного и негнущегося колена, то в какой-то миг и ему поневоле захотелось бы присесть и вжать голову в плечи, чтобы спрятать свой рост, вызывающе высокий для такого святилища. Хмыкнув, он оценил замысел воздвигнувших здание архитекторов. Но не удивился: этот стиль очень органично сочетался с манерой правления в Тизэ.
На всем протяжении главного коридора в высоких нишах стояло по шесть каменных фигур с каждой стороны. Фигуры эти были гигантскими, и за спиной у каждой статуи мужчины находилась, положив ему руки на плечи, статуя женщины, чуть спрятанная в полутьме. Сам же коридор начинался от подножия обособленной скульптуры, в которой Сетен узнал точную, хоть и значительно уменьшенную копию памятника бунтарю-Тассатио с площади перед Объединенным Ведомством в Эйсетти. Тринадцатый ученик Паскома оставался в одиночестве: в отличие от остальных фигур храма у него не было попутчицы.
Пройдя мимо всех изваяний и вглядываясь в лица, Сетен не смог вспомнить никого из друзей прошлого. Все они Взошли еще до катаклизма. Только где-то далеко-далеко, на третьестепенном плане сознания, зажглось имя — кажется, это было имя Рарто. Кто из этих каменных истуканов был лучшим приятелем Ала в той жизни, которую помнили теперь, наверное, только атмереро и моэнарториито, Тессетен так и не узнал.
Преодолев коридор изваяний, прихожанин должен был рано или поздно выйти к алтарю — во всяком случае, такую развязку предполагала архитектурная логика, нагромоздив очень внушительную кульминацию из мраморных людей. И Сетен очень удивился, когда обнаружил в конце коридора широкую лестницу, ступени которой резко уходили на нижний план постройки.
Тяжело прихрамывая под взглядами занятых своими делами служителей, он спустился и увидел в просторном зале большой бассейн, отороченный штрихпунктиром чередующихся между собой перилец и колонн. Откуда-то сверху в воду проникал дневной свет, и она словно сияла изнутри, из глубины, завораживая бликами, которые, покачиваясь, отражались на мраморных стенах, колоннах и потолке.
— Ты не видел главного, — послышался голос, который снился ему в те редкие часы, когда удавалось заснуть. — Задержись тут немного — этот момент вот-вот наступит, и только сегодня, единственный раз в году…
Сетен оторвался от созерцания воды. Напротив него, по другую сторону храмовой купели, в легком, едва заметном на теле платье стояла Танрэй. Тяжелые волосы цвета тепманорийской осени забраны обручем-гребнем и уложены на затылке в замысловатую прическу, оттягивая голову женщины назад — вот откуда эта величественная, горделивая походка! Танрэй было попросту тяжко носить на голове эту роскошную корону из собственных волос! На ногах ее — легкие плетеные сандалии в точности по форме узенькой стопы, и ровные тонкие пальцы с неприхотливым изяществом расположились на искусно вырезанной лодочке-подошве. Она смотрелась, как вдруг ожившая и сбежавшая от Тассатио его попутчица. Потому он и караулит там коридор в одиночестве…
— Да не иссякнет солнце в сердце твоем, сест… царица!
Она передернула плечами и нахмурилась:
— Десять лет назад ты сказал, что оно там уже иссякло.
— Я так сказал?!
Танрэй заколебалась, тронула пальцами висок, растерянно улыбнулась и со смущением признала:
— Прости. Мне это приснилось.
Сетен сложил руки на груди:
— Приятно, да что там — лестно! — слышать, что моя недостойная персона имела такую оказию — присниться величайшей из всех величайших, самой яркой звезде на горизон…
— Ну хорошо, хорошо, довольно, — устало попросила она, полубоком присаживаясь на перильца бортика над водой.
Искры, бегающие по поверхности, озаряли снизу лицо жены Ала, и зеленые глаза ее светились мистическим пламенем.
— Я хотел бы, чтобы ты это запомнила, царица. И этот зал, и эту купель…
Он выжидал. Перекрикиваться через водную преграду не слишком удобно, особенно если представить, что здесь кругом полно наушников, но пока лучше соблюдать дистанцию. Ведь еще не ясно, Танрэй это или какая-нибудь дрянь, морочащая головы людям, в том числе и ему. Вот откуда, к примеру, у солнышка-сестренки такие ядовито-зеленые глаза? И с каких пор у нее появилась столь вызывающая манера одеваться? Посмотришь на ее фигуру, едва прикрытую этими тонкими тряпочками — фигуру идеально сохранившуюся с юности, явно тренированную и старательно ухоженную любящей служанкой, — и все внутри переворачивается, дыхание занимается, а самое главное — мертвецки пьянеет рассудок… Всё это слишком сильно напоминало гипнотическое воздействие талантливого ментала.
«Полоумный трухлявый пень, — брюзгливо проворчал голос внутри, — это не у меня, это у тебя тяжелая форма паранойи. Нет там никакого ментала, нет и не было, старый ты тюлень! Это попутчица твоя, за которой, припомни, ты всегда готов был бегать, выпустив язык, с Натом наравне! Жарко здесь, не в мехах же ей ходить! В Тизэ, если ты не заметил, все одеваются так же! Глаза ему не понравились! А ты себя в зеркале видел последние лет тридцать?»
— Что ты хочешь найти в этом храме, Сетен?
— Кронрэй не очень-то рвется пообщаться со мной — вот я и зашел сюда посмотреть, что было у него на душе, когда он строил этот храм.
— И я его понимаю, — отрезала она с удивительной для нее резкостью. — С тобой вряд ли захочет пообщаться кто-то, кроме меня. Уж слишком хорошо все помнят, как ты предательски ушел тогда и увел с собой едва ли не сотню дееспособных мужчин общины! Зачем вы здесь, Сетен? Откуда вы?
— Почему же ты не подойдешь, прекраснейшая?
Она пропустила его вопрос мимо ушей и с настойчивостью повторила:
— Так что же?
— У наших картографов тот полуостров, откуда нас несут проклятые силы, изображался в виде ножки карлика, баламутящего Серединное море. Мне очень нравится то место, мне хотелось бы там родиться и жить… когда-нибудь, в другой раз. Только я уже и не вспомню, как звался он. Память, знаешь ли, подводит на старости лет…
Танрэй вгляделась в него и рассмеялась:
— Ты себе льстишь. Судя по тому, как вы играете в жизнь, старость вам, мужчинам, не грозит никогда. Даже в пятьдесят.
— А почему ты меня не спросишь о чем-нибудь другом? О том, например, что с нами произошло за эти годы? Где твое женское любопытство, сестренка?