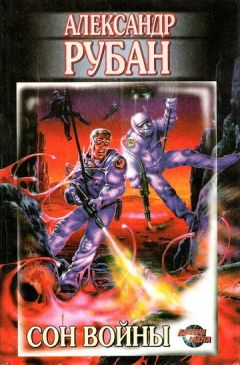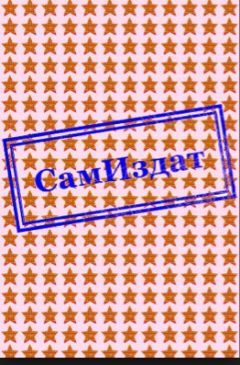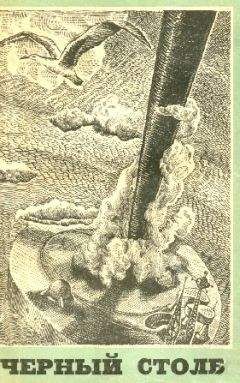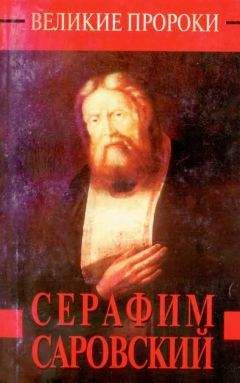Застегивая пряжку, я ощутил некоторое беспокойство. Так и есть: в оплетке не оказалось никакого кефира, а оказался в ней РТБИ-32 — армейский тридцатидвухимпульсный разрядник точечного боя. На торце рукоятки, под знакомой еще с Парамушира царапиной, был выбит мой личный номер: 307126-Т. Я вложил «эртэшку» обратно в оплетку, успевшую стать кобурой, и виновато посмотрел на Нику.
— Привези мне оттуда слона! — попросила она очень веселым голосом. Белого! — И как-то ненатурально капнула слезой в манную кашу.
Я хмыкнул, скосил глаза на тарелку с творожниками и попытался убедить себя в том, что они позеленели от старости. Я даже подцепил один из них вилкой, чуть не сковырнув звездочку. Разумеется, это были уже погоны, а не творожники.
— Вот именно слона? — переспросил я, отложив вилку. — Белого? А белый медведь, допустим, тебя не устроит?
— И медведь устроит — ты только привези. Не обязательно целиком, можно хвостик. Шерсти клок. Снежинку.
— Тип…! — Я хотел сказать: «типун тебе на язык», потому что вспомнил совсем другие «снежинки» — парамуширские, о которых Ника не знала. Но потом понял. — Ах, снежинку… Нет, снежинку не довезу: растает в руках.
— Вот и хорошо… — проговорила Ника, не поднимая глаз и бесцельно ковыряя ложкой белую кашу. — Вези снежинку, и пусть она тает. Это значит руки будут теплые. Живые.
— Только не отпевай меня прямо сейчас, ладно? — Пожалуй. я сказал это слишком резко, потому что осерчал.
Суеверия.
Она вскинула на меня обиженные глаза — сухие. Во сне я чуть не забыл, что моя Вероника никогда не плачет. Почти никогда. И загадал: если, проснувшись, я увижу в ее глазах ну хотя бы слезинку — значит, все в порядке. Вернусь. А с белым слоном или без — неважно.
До Парамушира я ни во что такое не верил: ни в Бога, ни в черта, ни в ведьмин сглаз, ни в цыганкин сказ. После Парамушира я верю дурацким приметам, которые сам сочиняю. Кто не успел стать суеверным, остался там. Им уже ничего не снится. И никогда не будет.
— В конце концов, это могут быть просто сборы, — соврал я, переподготовка… Да мало ли! Может быть, нового райкомреза назначили, представлять будут. Соберет резервистов, поручкается с ветеранами — и по домам.
Ника отвернулась.
— Святые сновидцы! — воскликнул я. — Ну, сама подумай: на кой Миротворческим Силам России туда, где слоны? Белые! Что они там сами не разберутся?.. Недельные сборы, самое большее — месячные. Возле Томска погуляем, белых зайцев постреляем.
— Двухголовеньких, — сказала Ника и дрогнула уголком губ (но все-таки вверх дрогнула, а не вниз).
— Шестилапеньких! — бодро подхватил я. — Привезти?
— Себя привези.
— Есть привезти себя!
Я сунул погоны в нагрудный карман моей теплой безворотки, поднялся из-за стола, молодцевато отдал Нике честь и, повернувшись налево-кругом, пошел печатать строевым к выходу из «молочки».
— Я буду сниться! — крикнула Ника вдогонку. — Часто!
Ну-ну… Если так же часто, как на Парамушир, то лучше не надо. Прокрутят тридцать один сон в одном сеансе, и такая каша получится! Да еще с купюрами…
В гардеробе «молочки» мне, вместо несолидного шерстяного берета, легковесного пуховика и легкомысленно-полупрозрачного кейса выдали стальную каску, шинельную скатку и плоский солдатский ранец. Я, сдвинув брови, постучал пальцами по торчащему из нагрудного кармана гимнастерки погону с отчетливым желтым просветом — и гардеробщик, извинившись, заменил солдатскую экипировку надлежащей. Теперь это были: фуражка с обмятой тульей, плащ-палатка и офицерская сумка-планшетка. Другое дело.
— Два дробь четырнадцать, ваше благородие, — сообщил он почтительно. Тринадцать пятнадцать, тире, тринадцать сорок пять. Восемь.
Я кивнул. Эти же цифры были написаны малиновым стилом на плексигласовой крышке планшета. Под цифрами пламенел начальственный росчерк, а над цифрами была типографская строчка: «Капитану ТРДД-4 МС Тихомирову В.Г.» Я пригляделся к подписи и присвистнул: это было не факсимиле! Командир резерва полковник Включенной подписал повестку лично, своей рукой…
Я снова перечел цифровой код. Место явки: актовый, он же гипнотренажный зал штаба резерва. Время явки: сегодня в половине второго плюс-минус четверть часа. Готовность: восьмичасовая от момента сбора офицеров 4-го Томского резервного десантного дивизиона МС.
Круто. Это значит: пять часов инструктажного сна, час на ознакомление с личным составом моей полуроты, два часа на экипировку, и — ночной вылет… Куда? Где на текущий момент позарез нужны миротворцы? Не дай Бог, если там, где слоны…
Впрочем, тогда не фуражка бы снилась, а белый пробковый шлем. И белые тапочки.
И Вероника не шутила бы про слонов: такие шутки расслабляют, если и вправду туда. Не для военного сна такие шутки.
Как бы в ответ на невысказанный вопрос, под плексигласом немедленно возникла карта — не то Кольский полуостров, не то Чукотка. И немедленно же изменила очертания — надо полагать, из соображений секретности. Я и моргнуть не успел, а она уже стала картой-схемой автобусных маршрутов Томска (северо-восток). Остановка «Шарики» на проспекте Светлых Снов, ближайшая к штабу резерва, была отмечена ядовито-зеленым кружком. Малиновые цифры, обозначавшие время явки, пульсировали.
Дисциплина.
Все-таки, военный сон есть военный сон: четко, однозначно, без метафор, с минимальным зарядом лиричности. И пока — без патетики. Сны с патетикой будут потом, накануне деда.
Спасибо, хоть намекнули, где будет дело. Не там, где слоны. Слава Богу, не там, где слоны!
Гардеробщик ободряюще похлопал меня по плечу, улыбнулся и волнообразно шевельнул ушами. Уши были большие и плоские — как у слона… И по плечу он меня похлопал не рукой, а хоботом. Белым.
— Врешь! — я погрозил ему пальцем. — Я же видел карту!
Белый слон, не ответив, ткнулся хоботом в нагрудный карман моей безворотки, выдернул позеленевший творожник и отправил в розовую треугольную пасть. Вдумчиво пожевал, сплюнул на барьер четыре золотистые звездочки, задрал хобот и затрубил «Прощание славянки», гулко подхлопывая ушами. На фоне финиковых пальм и белых пагод маршевая мелодия звучала очень душещипательно, хотя и странно.
Разумеется, последние метаморфозы не имели никакого отношения к военной трансляции. Это был уже личный сон, по определению неподконтрольный и неподотчетный, ибо тайна личного сна охраняется государством.
Я пожал плечами и проснулся окончательно. Было без четверти восемь.
Ника спала — у нее сегодня «окно». А мне надо было спешить, потому что на все про все у меня ровно шесть часов. За это время надо побывать в конторе (получить расчет — переоформить акции — обозвать хозяина козлом покурить с ребятами), забежать в Клуб и погасить должок в баре (то-то Гога удивится), вернуться, пообедать, присниться маме (если успею), хотя бы наспех попрощаться с Никой и отговорить ее от провожания. Ничего этого мне не хотелось делать, в особенности наспех, а меньше всего хотелось будить Нику, заглядывать ей в глаза и лишний раз убеждаться в том, что она никогда не плачет. Или вдруг обнаружить, что — почти никогда. Ну, не мог я загадать что-нибудь поумнее?