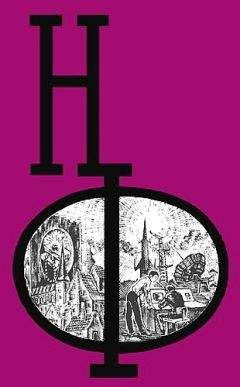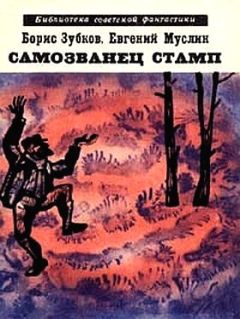Как же могло случиться, что я оказался здесь? Я, который все знаю и все могу постичь, стал вдруг работать на смерть?
Когда это случилось? Где тот не замеченный мной дорожный знак, который в последний раз предупредил об опасности?
Вот и расплата - белая кровь… И все же это только случайность. Белая кровь не расплата. Тяжелые, жгучие мысли последних дней… Я бы мог думать лишь о вселенной, о чистых и вечных глубинах, где застыло заледеневшее время. Моя мысль точна и обострена сейчас, как никогда. Я бы мог додумать, поймать неуловимую точку кольца, где сливаются прошлое и будущее, конец и начало. Но вместо этого я приговорен искать объяснение собственного падения. Вот мой ад па земле. Он открылся передо мной, прежде чем я предстану перед Озирисом, который взвешивает на аптекарских весах все наши грехи с точностью до десятого знака после запятой.
Когда-то так вот умирал Луис Слотин, молодой и красивый гений, который своими руками собрал в Лос-Аламосе первую бомбу. Шестьдесят три раза он благополучно сводил и разводил урановые куски, определяя критическую массу. В шестьдесят четвертый началась цепная реакция. Он разбросал блоки и прервал процесс. Все были спасены, а он умер. Даже его золотой зуб стал источником наведенной радиации, и на губе возник ожог…
Он умирал трудно и мужественно. Хотел бы я знать, о чем передумал он, человек, собравший первую бомбу. Как они горели тогда, как спешили опередить нацистов! Но бомбой распорядились за них. Так о чем же он думал в последние минуты? О чем?
Мне кажется, я бы сумел понять это, если бы восстановил неуловимую цепь компромиссов и таких внутренних сделок, которая привела меня сюда. Он был героем, Слотин, а кто я?
Кто я? Кто мы? Откуда? Куда идем?
Дениз тоже продала меня и себя. Когда я заключил контракт, она не спросила, куда и зачем я уезжаю. Не спросила, потому что знала, догадывалась, предчувствовала. Но смерть, как и война, списывает все грехи. За той, обитой черным дерматином дверью нет уже ни подлости, ни предательства, ни преступления. Всеобщая нивелировка, разъятие микротел на первозданные элементы. Стопятидесятичетырехчасовая неделя без праздничных и выходных дней. Поточное производство.
Правление фирмы рекламаций не принимает. И никаких сношений с внешним миром, хуже, чем в зоне…
Почему же так тоскливо и неспокойно? Почему? А Дениз даже не знает, как мне здесь плохо.
Тихо подсел доктор. Думает, что я сплю. Осторожно нащупал пульс. Еле слышно шепчет: “Раз, два, три, четыре, пять…” Раз, два, три, четыре, пять… Считаю падающие звезды. Августовский звездопад. Огненные штришки в ночном небе. Загадай скорее желание, Аллан! Ну, загадай же!” Ах, какая чудесная девочка сидит рядом со мной на крыше!
Сколько кружев и лент! Сколько белого и голубого! Переплет чердачного окна. Синий отблеск на пыльном стекле. Черные горбатые силуэты кошек. И звезды, и звезды…
А я смотрю на самую большую, на самую яркую звезду.
Она висит над трубой дома Смайлсов. Я гипнотизирую ее.
Кажется, она пылает ярче и ярче, разжигаемая моим ожиданием.
Ну же! Ну! Я жду, когда она упадет. Просто интересно посмотреть, как будет падать такая большая звезда. О, уж она-то покажет себя! Она не чета этим крохотным звездочкам, которые исчезают, как мыльные пузыри. Это будет грандиозное падение. Может быть, почище фейерверка в ночь карнавала.
“Вот сейчас она упадет”, - говорю я сквозь стиснутые зубы, не отводя от звезды глаз. “Вот эта, большая? - удивляется она. - Разве такие тоже падают?” - “Еще как! Она обязательно упадет. Я сброшу ее психической силой. Действие творит судьбу!” И девочка плачет. Она умоляет меня пощадить звезду: “Там ведь тоже живут мамы с детками. Пусть падают маленькие звездочки, где нет никого. А эта должна светить. Мне очень жалко деток и мам, и бабушек и нянь жалко. Ну что тебе стоит? Не смотри на нее так! Подумай, вдруг там кто-то сейчас смотрит на нас. Вот так же, как мы с тобой. Пожалей хоть их. Как же тебе не стыдно”. Я уже не смотрю на звезду.
Но Дениз об этом не знает и все просит меня, все просит…
Прости мне те твои слезы, Дениз! Прости… Ведь на другое утро ты уже обо всем позабыла и весело рисовала человечков на уроке. А я, я не забыл тот звездопад.
Как живо я помню холодок того детского любопытства!
Нет, Дениз, я не хотел плохого мамам и деткам с далекой звезды. Просто мне было интересно, как она будет падать и что станет, когда она упадет. Чистое детское любопытство. Говорят, гениальные исследователи сохраняют его на всю жизнь.
Такие, как Эйнштейн или Бор, при этом задумываются и о мамах и о детках, а некоторым это просто не приходит на ум.
Я и многие из моих коллег относимся к последним. Право, все мы неплохие люди. Просто мы как-то не задумываемся о многом. Что-то важное ускользает от нас. Торжество всякого нового научного открытия - это почти всегда насилие, ломка привычных взглядов - интеллектуальный деспотизм чистой воды. А вот безответственным быть он не должен. Всегда надо думать о мальчиках и девочках с далекой звезды. Особенно в те дни, когда звезды падают на крыши. Сколько их, Дениз?
“Девяносто, девяносто один, девяносто два…” - Доктор отпустил мою руку.
Девяносто два. Наверное, немного повысилась температура.
Почему всегда так болезненны ночи? Утро приносит прохладу и успокоение, ровным светом озаряет все тупики, ласково развязывает запутанные узлы. Скорей бы утро. Я всегда хорошо засыпаю под утра. И сплю спокойно и глубоко.
4 АВГУСТА 19** ГОДА. УТРО. ТЕМПЕРАТУРА 37,3.
ПУЛЬС 84. КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ 130/85
Какую власть имеют над нами сны! Мне приснилась Дениз, и впечатление осталось мучительное, острое, более сильное, чем это бывает в действительности. Когда-то давно мне снились голубые женщины, и я долго потом не мог забыть о них.
Снам свойственна известная условность, как и всякому настоящему искусству. Каждый человек становится во сне не только зрителем, не только участником, но, неведомо для себя, и сценаристом, и режиссером, и оператором. Иные сны запоминаешь на всю жизнь, точно хорошие фильмы. Рожденное внутри нас живет потом самостоятельной жизнью. Здесь та же, свойственная нам, инстинктивная тяга к единству, точнее к целенаправленной гармонии. Гармоничное единство формы и содержания - солнце на горизонте искусства. Всю свою недолгую жизнь я искал гармонию физического мира. В хаосе распадов и взаимодействий, в звездах аннигиляции и в трансмутационных парадоксах грезились мне законченные и строгие формы теории, способной объяснить все.
Помню, еще в университете кто-то предложил нам забавную анкету. Нужно было против названия каждой элементарной частицы написать цвет, в котором она видится в воображении.